сентябрь 2019
Легкая кавалерия. Выпуск №9
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
Говорим дальше — и снова о разных интересных штуках: о нормальной мужской прозе и критериях профессиональной полемики; о причинах народной любви к Татьяне Толстой; о короне главного литературного критика и стремлении Александра Гаврилова «пожевать текст»; о полуминутках поэзии на телеканале «Дождь»; еще об одном главном и лучшем (а иногда даже «единственном») критике страны (не называя имени) или снова о главкритике; о том, кто может примирить Дмитрия Кузьмина с силлаботоникой; а также о многом другом…
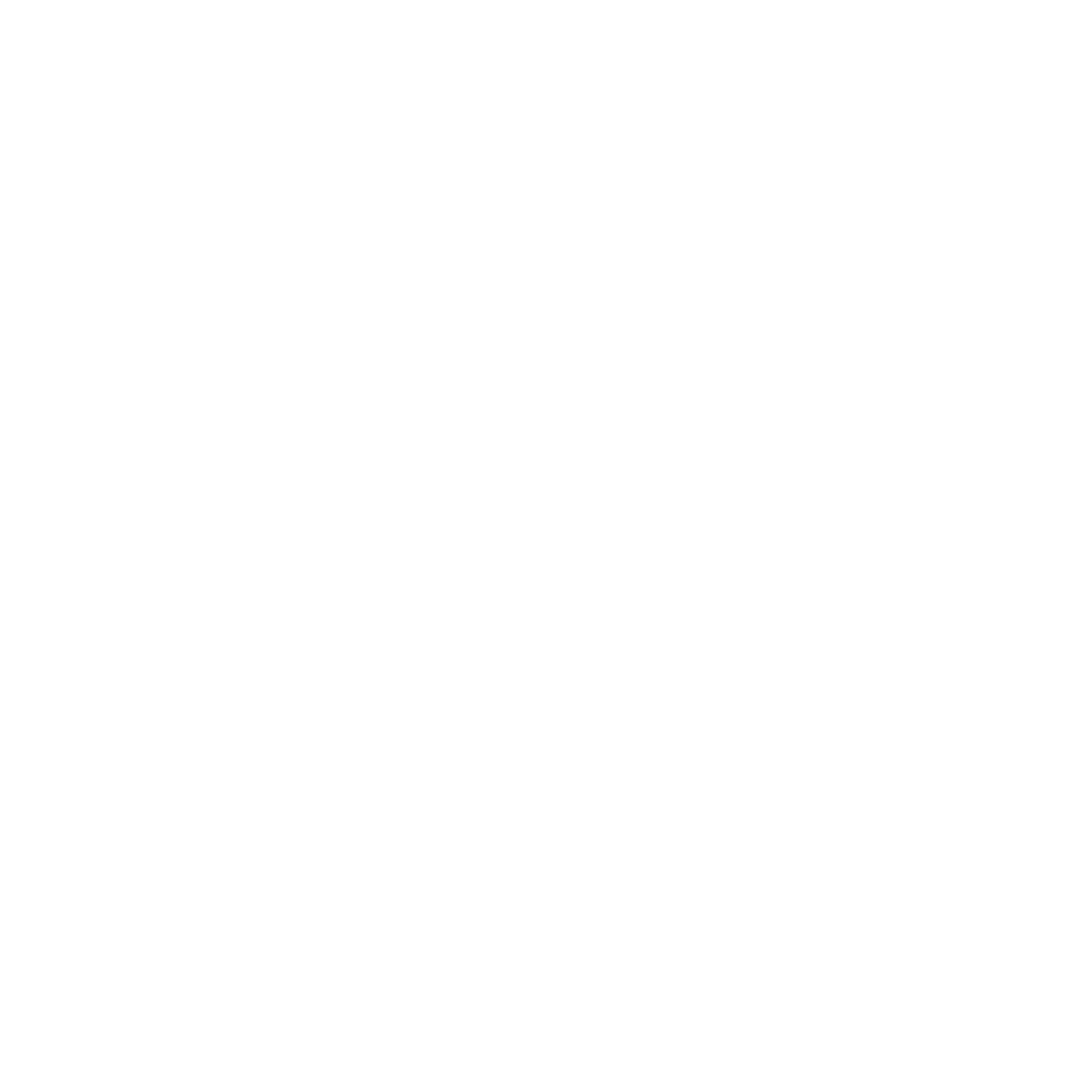
Сергей Морозов
Конец года. Принято подводить итоги.
Но не лучше ли в духе общемировых литературных тенденций этого сезона заглянуть немного вперед? Побаловаться фантастикой ближнего прицела, помечтать. Ведь «литературные мечтания» у нас в крови.
Но оттолкнемся от настоящего.
«У нас нет литературы», — говорил тот же Белинский.
Что ж, нет, так будет. Только вот какая?
Год начался с внезапного озарения — «надо найти читателя». Двадцать лет не требовалось — и тут опять. Хотя на этом все и остановилось, дальше мысли дело не пошло. Признаться, и я так решил: «Кабы был читатель, все было бы спасено».
С другой стороны, а зачем он? Разве он что-то понимает в литературе? От него одни хлопоты и нестроения, шум, гам, недовольные отзывы, нервное расстройство автору и издателю.
Но не лучше ли в духе общемировых литературных тенденций этого сезона заглянуть немного вперед? Побаловаться фантастикой ближнего прицела, помечтать. Ведь «литературные мечтания» у нас в крови.
Но оттолкнемся от настоящего.
«У нас нет литературы», — говорил тот же Белинский.
Что ж, нет, так будет. Только вот какая?
Год начался с внезапного озарения — «надо найти читателя». Двадцать лет не требовалось — и тут опять. Хотя на этом все и остановилось, дальше мысли дело не пошло. Признаться, и я так решил: «Кабы был читатель, все было бы спасено».
С другой стороны, а зачем он? Разве он что-то понимает в литературе? От него одни хлопоты и нестроения, шум, гам, недовольные отзывы, нервное расстройство автору и издателю.
Читатель — это рынок, толкучка и зависимость от его грошей. Формула «клиент всегда прав» уже довела российскую прозу до финансового краха: ее не хотят знать, ее не желают покупать. Торгашеская психология и невзыскательный вкус потребителя не в состоянии оценить высоты нынешних художественных гениев.
Как в школе лучше без учеников, в больнице без пациентов, так и в литературе лучше бы без читателя. Толстые журналы поняли это давно. Начало доходить и до издателей с писателями. Перспектива ясна: окончательное построение литературы без читателя в отдельно взятой стране. Жили ведь без него, нечего и начинать. Только теперь отказ должен быть принципиальным.
Конечно, можно возразить такой стратегии с позиции экономических соображений. Но то, что «деньги есть только у читателя» — сомнительное возражение.
Реальное положение дел таково: деньги, а самое главное, интерес к литературе, есть у того, кто считает себя писателем. Вот он готов платить. Он способен поддержать тонущий корабль российской литературы. Многочисленные издательские платформы поняли это давно. Вспомнили этот принцип, видимо, и издатели. То тут, то там слышу я стандартную цену за вход в сонм бессмертных — «300 тысяч рублей, тираж — 1 тысяча». Глядя на то, как замелькали вокруг неизвестные имена в известных издательствах, не в первых рядах, конечно, а так, на подхвате в какой-нибудь серии «Литературное будущее», соотношу эти имена с указанной выше калькуляцией и думаю: «Ага!».
То, что писательский труд безвозмезден, уяснили нынче многие.
И согласились с этим. Ставки поднимаются. Он не только безвозмезден. Чтобы стать автором книжного томика, нынче следует заплатить. Раньше такое считалось позорным. «Издавать за свой счет неприлично». Думаю, скоро это станет нормой жизни, единственно возможным решением проблемы для того, кто захочет увидеть свою писанину в виде книжки. Хочешь стать писателем? Заплати за вход.
Впрочем, из всякого правила есть исключения. Уверен, что здесь оно тоже будет. Остальная литература станет авторской (в смысле самооплаты), но останется издательство, работающее в суперэлитном редакторском режиме. Я говорю о «Редакции Елены Шубиной». У нас ведь всегда должно быть нечто образцовое, проверенное, то, что можно показать. Нечто солидное. Почти как у людей. Витрина. Лицо страны.
Что за бред? Как такой поворот мог бы случиться?
А отчего бы и нет, при крепнущем из года в год убеждении, что писатель — не тот, кто пишет (тем более делает это хорошо), не тот, кого читают, а тот, кто публикуется.
Как в школе лучше без учеников, в больнице без пациентов, так и в литературе лучше бы без читателя. Толстые журналы поняли это давно. Начало доходить и до издателей с писателями. Перспектива ясна: окончательное построение литературы без читателя в отдельно взятой стране. Жили ведь без него, нечего и начинать. Только теперь отказ должен быть принципиальным.
Конечно, можно возразить такой стратегии с позиции экономических соображений. Но то, что «деньги есть только у читателя» — сомнительное возражение.
Реальное положение дел таково: деньги, а самое главное, интерес к литературе, есть у того, кто считает себя писателем. Вот он готов платить. Он способен поддержать тонущий корабль российской литературы. Многочисленные издательские платформы поняли это давно. Вспомнили этот принцип, видимо, и издатели. То тут, то там слышу я стандартную цену за вход в сонм бессмертных — «300 тысяч рублей, тираж — 1 тысяча». Глядя на то, как замелькали вокруг неизвестные имена в известных издательствах, не в первых рядах, конечно, а так, на подхвате в какой-нибудь серии «Литературное будущее», соотношу эти имена с указанной выше калькуляцией и думаю: «Ага!».
То, что писательский труд безвозмезден, уяснили нынче многие.
И согласились с этим. Ставки поднимаются. Он не только безвозмезден. Чтобы стать автором книжного томика, нынче следует заплатить. Раньше такое считалось позорным. «Издавать за свой счет неприлично». Думаю, скоро это станет нормой жизни, единственно возможным решением проблемы для того, кто захочет увидеть свою писанину в виде книжки. Хочешь стать писателем? Заплати за вход.
Впрочем, из всякого правила есть исключения. Уверен, что здесь оно тоже будет. Остальная литература станет авторской (в смысле самооплаты), но останется издательство, работающее в суперэлитном редакторском режиме. Я говорю о «Редакции Елены Шубиной». У нас ведь всегда должно быть нечто образцовое, проверенное, то, что можно показать. Нечто солидное. Почти как у людей. Витрина. Лицо страны.
Что за бред? Как такой поворот мог бы случиться?
А отчего бы и нет, при крепнущем из года в год убеждении, что писатель — не тот, кто пишет (тем более делает это хорошо), не тот, кого читают, а тот, кто публикуется.
Главное издать. Потомки оценят. Разве не этому учили?
Ожидание оценки потомками — лучшая приманка для инвестиции.
А пока признание другого рода. Я смог, я прорвался, я пробился, я издал. А остальные — нет. Кто пробился, за деньги или через нарождающийся аналог Гослитиздата — «Редакцию Шубиной», уже доказал свою литературную состоятельность. В отсутствие читательского интереса других доказательств права на писательское звание быть не может. Поэтому даже сейчас, когда читаешь о человеке, опубликовавшем одну-две книги, что он значительное явление, охотно этому веришь. Заслужил. Печатайся, дорогой.
Не за горами уже время, когда все окончательно встанет с ног на голову. То, что станет выходить в издательствах за авторский счет, будет называться литературой, а то, что составляет настоящую литературу, никогда не увидит свет в печатном виде. Но все это по большому счету будет самиздат. В одном случае платный, в другом — нет. В издательствах отпадет извечная редакторская боль — проблема сортировки и выбора: теперь издаем только то, за что заплачено. Уйдут в прошлое и муки критика — хорошо написано или нет, никого не волнует, главное сообщить о книге, и борьба развернется только в этом направлении: напишут или нет?
Но кто будет платить за сам текст?
С издательской литературой мне в принципе все ясно: за право рассказать историю денежки выложит сам автор. Загадка в другом — будут ли люди отдавать свои кровные за то, чтоб услышать чужую историю?
Мы живем в последние времена. Литература будущего уже не будет иметь никакого социального выхлопа. В обществе, где никто никого не слушает, платить придется за то, чтобы хоть как-то отлить свое творение пусть не в бронзе, так хотя бы в виде книги.
Зачем?
У меня нет ответа на этот вопрос.
Стремление просто увидеть свою книгу, не интересуясь, прочитают ее или нет, похвалят ее искренне или отвергнут, поделиться своими мыслями и чувствами и не ждать, что это окажет влияние, — уже само по себе абсурдно.
Мы так долго боролись с мнением, что литература должна воздействовать, переустраивать, звать, наводить на размышления, что в итоге пришли к вполне логичному итогу: она потеряла всякое функциональное значение и стала по большому счету не нужна публике. Потребность в ней останется лишь у сумасшедших, желающих видеть свое имя на обложке, у издателей, спекулирующих на их честолюбии, у министерств и ведомств, считающих, что страна должна ради приличия и тщеславия иметь хоть какую-то якобы изящную словесность, развивая традиции…
А пока признание другого рода. Я смог, я прорвался, я пробился, я издал. А остальные — нет. Кто пробился, за деньги или через нарождающийся аналог Гослитиздата — «Редакцию Шубиной», уже доказал свою литературную состоятельность. В отсутствие читательского интереса других доказательств права на писательское звание быть не может. Поэтому даже сейчас, когда читаешь о человеке, опубликовавшем одну-две книги, что он значительное явление, охотно этому веришь. Заслужил. Печатайся, дорогой.
Не за горами уже время, когда все окончательно встанет с ног на голову. То, что станет выходить в издательствах за авторский счет, будет называться литературой, а то, что составляет настоящую литературу, никогда не увидит свет в печатном виде. Но все это по большому счету будет самиздат. В одном случае платный, в другом — нет. В издательствах отпадет извечная редакторская боль — проблема сортировки и выбора: теперь издаем только то, за что заплачено. Уйдут в прошлое и муки критика — хорошо написано или нет, никого не волнует, главное сообщить о книге, и борьба развернется только в этом направлении: напишут или нет?
Но кто будет платить за сам текст?
С издательской литературой мне в принципе все ясно: за право рассказать историю денежки выложит сам автор. Загадка в другом — будут ли люди отдавать свои кровные за то, чтоб услышать чужую историю?
Мы живем в последние времена. Литература будущего уже не будет иметь никакого социального выхлопа. В обществе, где никто никого не слушает, платить придется за то, чтобы хоть как-то отлить свое творение пусть не в бронзе, так хотя бы в виде книги.
Зачем?
У меня нет ответа на этот вопрос.
Стремление просто увидеть свою книгу, не интересуясь, прочитают ее или нет, похвалят ее искренне или отвергнут, поделиться своими мыслями и чувствами и не ждать, что это окажет влияние, — уже само по себе абсурдно.
Мы так долго боролись с мнением, что литература должна воздействовать, переустраивать, звать, наводить на размышления, что в итоге пришли к вполне логичному итогу: она потеряла всякое функциональное значение и стала по большому счету не нужна публике. Потребность в ней останется лишь у сумасшедших, желающих видеть свое имя на обложке, у издателей, спекулирующих на их честолюбии, у министерств и ведомств, считающих, что страна должна ради приличия и тщеславия иметь хоть какую-то якобы изящную словесность, развивая традиции…
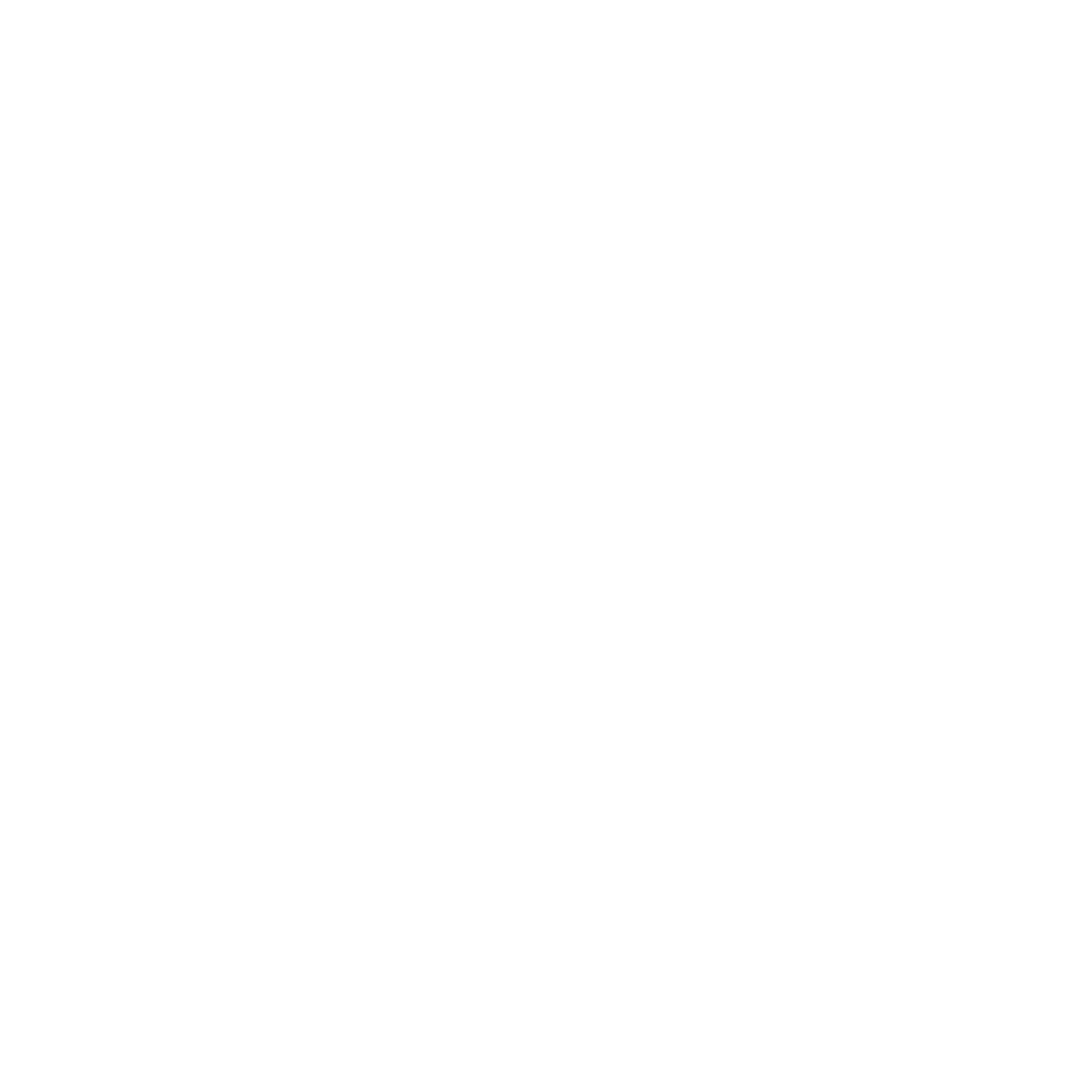
Анна Жучкова
В пору всеобщего увлечения феминизмом и ЛГБТ меня радует тенденция к нормальной мужской прозе, наметившаяся в середине 2010-х годов: с нормальной мужской тематикой, мужским отношением к жизни и героем-мужчиной. Этот новый тип мужской прозы отличается от двух прежних: пацанской и прозы рефлексирующих интеллигентов. Чтобы понять, в чем различие этих трех видов, введем понятие «литературной личности».
Предложенное Ю. Тыняновым в статье «Литературный факт», это понятие не получило дальнейшей разработки в филологии, редуцировавшись до весьма условного «лирического героя». Условного, потому что в современной школе термин почти утерял изначальный смысл, встречаясь в заданиях типа «найдите лирического героя стихотворения "Анчар"». Но что же такое литературная личность?
Предложенное Ю. Тыняновым в статье «Литературный факт», это понятие не получило дальнейшей разработки в филологии, редуцировавшись до весьма условного «лирического героя». Условного, потому что в современной школе термин почти утерял изначальный смысл, встречаясь в заданиях типа «найдите лирического героя стихотворения "Анчар"». Но что же такое литературная личность?
Некоторые идеи Тынянова не получили развития в позднейшей филологии. Таково введенное в статье «Литературный факт» понятие «литературной личности», противопоставленное «индивидуальности литератора», «личности творца» — в том отношении, в котором эволюция и смена литературных явлений противопоставлена у него «психологическому генезису» (Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 512).
Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 512.
Литературная личность не равна биографическому писателю, но соотносится с его психотипом и мировоззрением. Не равна она и герою, но взаимодействует с ним. Литературная личность больше, чем лирический герой, и включает его в себя: «В отличие от "лирического героя", который мог, по-видимому, связываться и с представлением об одном каком-нибудь тексте, "литературная личность" — категория более широкая, преимущественно межтекстовая — относящаяся ко многим или ко всем текстам писателя».
Литературную личность можно объяснить, обратившись к героическому эпосу. Воссозданный в нем народный характер не равен целиком ни герою, ни автору. Так же примерно проявляется литературная личность в прозе — как некий личностный образ, воссозданный в текстах и не равный ни герою, ни писателю во плоти и крови.
Посмотрим, с какими типами литературных личностей мы имеем дело в случае трех видов мужской прозы.
Случай первый. Для литературы традиционен образ поэта/художника как духовного существа, испившего священного меда и ставшего выше гендерного и человеческого. Но у этого образа есть сниженный вариант, когда литературная личность духовного уровня не достигла, а маску внегендерного существа уже надела. В таком случае перед нами литературная личность филолога, занимающего позицию принципиального недействия, прикрытую множественностью дискурсов и стилистической игрой. При такой литературной личности герой может стремиться к нулю, как в прозе М. Шишкина, быть объектом благодушной усмешки (Д. Бавильский, «Красная точка») или сливаться с личностью автора в акте совместного нытья (Б. Ханов, «Гнев»). Это филологический тип мужской прозы. Подчеркну: речь идет не о писательской личности с ее «биографией насморка» и не о «личности творца», а о личности, восстающей из текста, — в данном случае очень схематизированной и глубоко литературной.
Случай второй: брутальная проза нулевых. Литературная личность этого типа — «настоящий мужик», «мачо мэн», знакомый всем по произведениям
З. Прилепина, А. Рубанова и А. Снегирева. Я самый ловкий, самый быстрый, самый сильный, самый-самый… Меня женщины любят. Вот так любят, а еще вот эдак. Но под маской брутального мачо скрывается неуверенный подросток, безотцовщина, чье становление пришлось на смену эпох, когда былой порядок ухнул в небытие, а отцы перестали быть «отцами». Любопытно, что два «самых настоящих мужика», и Снегирев, и Прилепин — псевдонимы. Этот тип литературной личности противоречив и недолговечен, зарождение его мы видим в прозе Лимонова, закат — в рассказах Снегирева, где концепт брутальной мужественности раскрывается как пародийный и затрудняющий проявление человеческого потенциала.
Со второй половины 2010-х годов формируется новый тип литературной личности — нормальный мужчина. Андрей Рубанов топит своего пацанского героя в океане («Патриот») и начинает рассказывать о себе настоящем («Жестко и угрюмо»). От «нового» к настоящему реализму после 2017 года переходит Роман Сенчин («Квартирантка с двумя детьми»). К писателям, работающим в ключе нормальной мужской прозы, я отношу С. Солоуха («Рассказы о животных»), А. Бушковского («Рымба»), А. Дергунова («Элемент 68»), Д. Орлова «Чеснок» и группу питерских «активных реалистов». По общим характеристикам этот тип литературной личности совпадает с образом обычного русского мужчины, который:
В общем, нормальный мужчина. Не очень нежный, не очень разговорчивый. Честный. Ответственный. Настоящий.
Литературную личность можно объяснить, обратившись к героическому эпосу. Воссозданный в нем народный характер не равен целиком ни герою, ни автору. Так же примерно проявляется литературная личность в прозе — как некий личностный образ, воссозданный в текстах и не равный ни герою, ни писателю во плоти и крови.
Посмотрим, с какими типами литературных личностей мы имеем дело в случае трех видов мужской прозы.
Случай первый. Для литературы традиционен образ поэта/художника как духовного существа, испившего священного меда и ставшего выше гендерного и человеческого. Но у этого образа есть сниженный вариант, когда литературная личность духовного уровня не достигла, а маску внегендерного существа уже надела. В таком случае перед нами литературная личность филолога, занимающего позицию принципиального недействия, прикрытую множественностью дискурсов и стилистической игрой. При такой литературной личности герой может стремиться к нулю, как в прозе М. Шишкина, быть объектом благодушной усмешки (Д. Бавильский, «Красная точка») или сливаться с личностью автора в акте совместного нытья (Б. Ханов, «Гнев»). Это филологический тип мужской прозы. Подчеркну: речь идет не о писательской личности с ее «биографией насморка» и не о «личности творца», а о личности, восстающей из текста, — в данном случае очень схематизированной и глубоко литературной.
Случай второй: брутальная проза нулевых. Литературная личность этого типа — «настоящий мужик», «мачо мэн», знакомый всем по произведениям
З. Прилепина, А. Рубанова и А. Снегирева. Я самый ловкий, самый быстрый, самый сильный, самый-самый… Меня женщины любят. Вот так любят, а еще вот эдак. Но под маской брутального мачо скрывается неуверенный подросток, безотцовщина, чье становление пришлось на смену эпох, когда былой порядок ухнул в небытие, а отцы перестали быть «отцами». Любопытно, что два «самых настоящих мужика», и Снегирев, и Прилепин — псевдонимы. Этот тип литературной личности противоречив и недолговечен, зарождение его мы видим в прозе Лимонова, закат — в рассказах Снегирева, где концепт брутальной мужественности раскрывается как пародийный и затрудняющий проявление человеческого потенциала.
Со второй половины 2010-х годов формируется новый тип литературной личности — нормальный мужчина. Андрей Рубанов топит своего пацанского героя в океане («Патриот») и начинает рассказывать о себе настоящем («Жестко и угрюмо»). От «нового» к настоящему реализму после 2017 года переходит Роман Сенчин («Квартирантка с двумя детьми»). К писателям, работающим в ключе нормальной мужской прозы, я отношу С. Солоуха («Рассказы о животных»), А. Бушковского («Рымба»), А. Дергунова («Элемент 68»), Д. Орлова «Чеснок» и группу питерских «активных реалистов». По общим характеристикам этот тип литературной личности совпадает с образом обычного русского мужчины, который:
- Работает. И этим понемногу меняет мир.
- Любит жену и родину (что взаимосвязано).
- Действует по совести и судит по справедливости.
- Полагается на себя (и на бога) и несет ответственность за других.
В общем, нормальный мужчина. Не очень нежный, не очень разговорчивый. Честный. Ответственный. Настоящий.

Евгения Коробкова
Татьяна Никитична Толстая взялась за старое. После некоторой паузы в выступлениях — снова начала выходить на публику и рассказывать людям интересное. Про дачи, про матерную лексику, про то, можно ли научить писать прозу или поэзию. И про то, как плохо жилось в Советском Союзе, само собой. Тема эта — фирменный конек Никитичны. Как она сама однажды сказала, рожденным в СССР ничего не страшно. Можно ослепнуть, перебирать струны гуслей и петь про ужасы советского детства, как Боян бо вещий.
В чем секрет ее популярности, почему столько тысяч лет она собирает на свои рассказы людей, и те готовы платить деньги (и немалые) за билет? Кто-то предположил однажды, что наш народ, которому все божья роса, полагает, будто Никитична — и есть вдова Льва Николаевича Толстого.
Но, думается, причина популярности и вечнозеленого интереса — не только в этом.
В чем секрет ее популярности, почему столько тысяч лет она собирает на свои рассказы людей, и те готовы платить деньги (и немалые) за билет? Кто-то предположил однажды, что наш народ, которому все божья роса, полагает, будто Никитична — и есть вдова Льва Николаевича Толстого.
Но, думается, причина популярности и вечнозеленого интереса — не только в этом.
Толстая, Черниговская и Александр Васильев — это три сестры, суть одного явления, и работают они по одному принципу. С виду — обычные такие грубые советские тетки с рынка. Но при этом одна тетка — великий писатель, другая — великий ученый, третий — великий модник (одетый, как турецкий диван, — пошутил Максим Галкин). Но эти грубые с виду граждане умеют творить маленькие, но чудеса.
Бывают такие циркачи, которые умеют зубами двигать паровозы. Эффект трюка построен на том, что перед нами оказывается предмет, который не может двигаться. А дядька берет его, и раз! — катит. Может быть, катит и не очень быстро, и недалеко. Но это движение вызывает восхищение. То же вызывает балет толстушек. Когда заплывшие тетеньки вдруг проявляют чудеса гибкости, показывая то, что худым и трепетным ланям не снилось.
В этом эффект Толстой. Казалось бы, она состоит целиком из грубой, подчеркнуто низменной материи, неспособной парить, — и вдруг по щелчку пальцев писательница легко и грациозно вспархивает практически на вершину той сикоморы, где, как сказал бы Гумилев, с Христом отдыхала Мария.
Зная этот фокус, Никитична тем и занимается, что всеми силами подчеркивает свою неписательскую сущность. «Я простая мещанка родом из СССР, и у меня такие же мещанские интересы», — декларирует она ртом и фейсбуком.
Выступления Толстой на публике — это смесь советской поваренной книги (как приготовить блюда из майонеза и субпродуктов), задорновщины (американцы тупые) и поучений рабанит тети Хаи — как вести хозяйство так, чтобы соседи скончались от зависти.
Она активно интересуется тем, чем писатель постеснялся бы интересоваться. А именно: как урвать чего подешевле. Как приготовить еду из чего-нибудь поотвратительнее, типа из требухи, свиных ножек, рубца, бычьих яиц и т. д. Как бы кого-нибудь неприлично высмеять при всех и самой грубо хохотать при этом, матерясь и употребляя слово «опа» и «фуй». Как бы получить побольше денег и поменьше при этом чего-нибудь делать. Такая тетя, не постесняясь, по трупам пройдет, о чем Никитична с удовольствием сообщает. Однажды она даже рассказывала в лекции, как нашла хорошую квартиру в центре Москвы, но в ней жил старичок. И как она села ждать старичковой смерти, и когда он наконец помер — издала победное «ура».
В общем, писательница наша ничем не отличается от очень простых теток и этим своим опрощением очень льстит им. Вот поди-ка, такая хабалка, а еще аристократка, голубая кость.
Но фокус в том, что такая подчеркнутая материальность очень неожиданно, по щелчку, сменяется истинно писательской эфемерностью. Только что автор говорила о том, как бы преподавать этим тупым американцам по методу «Станиславского и хлестаковщины» — и вот уже спустя мгновение она проливает слезу над аутичным подростком, которого больше не увидит и у которого некому будет спросить, чем пахнет клеенка.
И что удивительно, слеза эта будет не менее искренна, чем жадность и желание сэкономить тысячу рублей на съеме квартиры.
На этом потрясающем перепаде между многопудовым телесным и абсолютно бестелесным и работает ее проза. И оттого эффект на разнице потенциалов — огромный.
Ну и последнее. Несколько лет назад у Толстой в «Эксмо» выходила книга, над оформлением которой я сильно потешалась. Потому что там были в столбик и одинаковым шрифтом написаны фамилия автора и название книги.
Татьяна
Толстая
Невидимая дева
В общем, получалось абсурдное: «Толстая невидимая дева».
Кажется, редактор книги тогда посмеялась вместе со мной. Но на самом деле — «толстая и невидимая» — это очень про Никитичну. Очень.
Бывают такие циркачи, которые умеют зубами двигать паровозы. Эффект трюка построен на том, что перед нами оказывается предмет, который не может двигаться. А дядька берет его, и раз! — катит. Может быть, катит и не очень быстро, и недалеко. Но это движение вызывает восхищение. То же вызывает балет толстушек. Когда заплывшие тетеньки вдруг проявляют чудеса гибкости, показывая то, что худым и трепетным ланям не снилось.
В этом эффект Толстой. Казалось бы, она состоит целиком из грубой, подчеркнуто низменной материи, неспособной парить, — и вдруг по щелчку пальцев писательница легко и грациозно вспархивает практически на вершину той сикоморы, где, как сказал бы Гумилев, с Христом отдыхала Мария.
Зная этот фокус, Никитична тем и занимается, что всеми силами подчеркивает свою неписательскую сущность. «Я простая мещанка родом из СССР, и у меня такие же мещанские интересы», — декларирует она ртом и фейсбуком.
Выступления Толстой на публике — это смесь советской поваренной книги (как приготовить блюда из майонеза и субпродуктов), задорновщины (американцы тупые) и поучений рабанит тети Хаи — как вести хозяйство так, чтобы соседи скончались от зависти.
Она активно интересуется тем, чем писатель постеснялся бы интересоваться. А именно: как урвать чего подешевле. Как приготовить еду из чего-нибудь поотвратительнее, типа из требухи, свиных ножек, рубца, бычьих яиц и т. д. Как бы кого-нибудь неприлично высмеять при всех и самой грубо хохотать при этом, матерясь и употребляя слово «опа» и «фуй». Как бы получить побольше денег и поменьше при этом чего-нибудь делать. Такая тетя, не постесняясь, по трупам пройдет, о чем Никитична с удовольствием сообщает. Однажды она даже рассказывала в лекции, как нашла хорошую квартиру в центре Москвы, но в ней жил старичок. И как она села ждать старичковой смерти, и когда он наконец помер — издала победное «ура».
В общем, писательница наша ничем не отличается от очень простых теток и этим своим опрощением очень льстит им. Вот поди-ка, такая хабалка, а еще аристократка, голубая кость.
Но фокус в том, что такая подчеркнутая материальность очень неожиданно, по щелчку, сменяется истинно писательской эфемерностью. Только что автор говорила о том, как бы преподавать этим тупым американцам по методу «Станиславского и хлестаковщины» — и вот уже спустя мгновение она проливает слезу над аутичным подростком, которого больше не увидит и у которого некому будет спросить, чем пахнет клеенка.
И что удивительно, слеза эта будет не менее искренна, чем жадность и желание сэкономить тысячу рублей на съеме квартиры.
На этом потрясающем перепаде между многопудовым телесным и абсолютно бестелесным и работает ее проза. И оттого эффект на разнице потенциалов — огромный.
Ну и последнее. Несколько лет назад у Толстой в «Эксмо» выходила книга, над оформлением которой я сильно потешалась. Потому что там были в столбик и одинаковым шрифтом написаны фамилия автора и название книги.
Татьяна
Толстая
Невидимая дева
В общем, получалось абсурдное: «Толстая невидимая дева».
Кажется, редактор книги тогда посмеялась вместе со мной. Но на самом деле — «толстая и невидимая» — это очень про Никитичну. Очень.
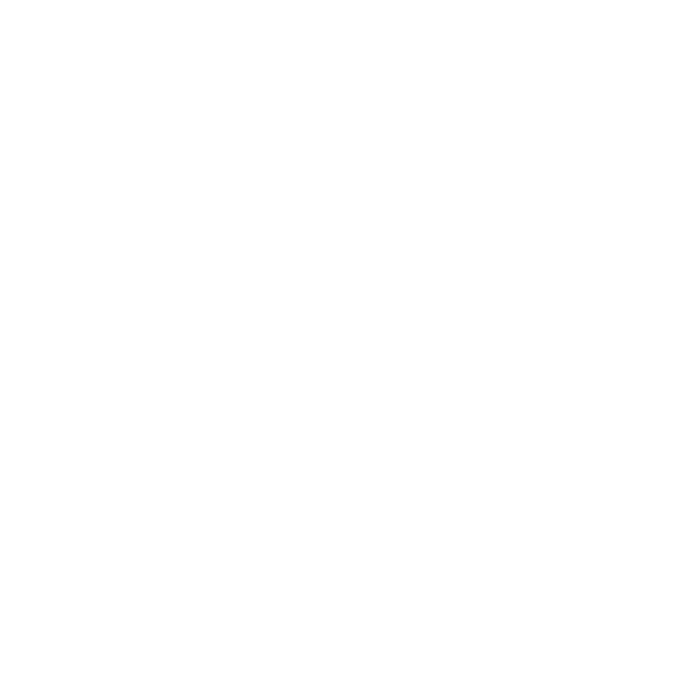
Олег Кудрин
Реклама, плавно переходящая в антирекламу. Утро у меня начинается с просмотра итоговой «дождевой» информпрограммы «Здесь и сейчас». А поскольку имею дома интерактивное телевидение, то могу регулировать скорость и дотошность просмотра. И вот с какого-то времени начал замечать, насколько яростно я не хочу / не могу смотреть/слушать знаменитые поэтические межпрограммки «Дождя», предваряющие новостную программу. Вследствие чего достиг виртуозности в прокручивании этих полуминуток, сопровождая это одной короткой фразой (которую приведу в конце текста).
Что ж так? Претензий к художественности нет: качественная поэзия, от частого повторения кажущаяся гениальной. Усталость из-за привыкания? Есть, конечно. Но не это главное. А что — стало ясно после недолгого рассмотрения. Чтоб понять, в чем суть, достаточно глянуть на последние строчки 10 отмониторенных поэтических межпрограммок.
Что ж так? Претензий к художественности нет: качественная поэзия, от частого повторения кажущаяся гениальной. Усталость из-за привыкания? Есть, конечно. Но не это главное. А что — стало ясно после недолгого рассмотрения. Чтоб понять, в чем суть, достаточно глянуть на последние строчки 10 отмониторенных поэтических межпрограммок.
1. «Комарик дохлый», «Все там будем, в Шереметьево (в образной системе стихотворения — Тот свет, — О. К.)», (Андрей Родионов); «тоже умирает молодцом» (Линор Горалик).
2. «На нас не смотрят никогда» (Мария Степанова); «когда не нужно никому» (Евгений Бунимович); «И тоска, какой не погашу» (Демьян Кудрявцев).
3. «С вершиной в окрестности Бога больше равна судьбе» (Евгений Бунимович).
4. «Ты только люби, дорогая, хорошая» (Станислав Добромыслов); «рыбам кажется, что поем» (Вера Полозкова); «что завтра — завтрак» (Вера Павлова).
Показательные получаются группки, требующие, впрочем, некоторого пояснения. Скажем в первой «смертной» тройке только в «комаринской» тема смерти не главная, там «всего лишь» самоуничижение («Эх, лох ты, лох ты») да возвышенно саморазрушительное «веничкианство» («В моей бутылке булькал спирт»), логично заканчивающееся «дохлым комариком». Другой же фрагмент у Родионова смертью не только заканчивается, с нее и начинается: «Ты сказала утром мне / Знаешь, умер Дэвид Боуи».
Но вот уж где истинный Danse Macabre, так это у замечательной Линор Горалик: «В парке, под бобыльником простым / умирает старый молодым: / гордо, молча, с каменным лицом, — / словом, умирает молодцом. / Рядом, под клеменцией простой, / умирает старым молодой: / стонет, плачет, дергает лицом, — / тоже умирает молодцом».
Вторая тройка имени Пессимизма-Отрицания по толкованию сложней и разнообразней. Но желчная изжога финальных двойных отрицаний — «не смотрят никогда», «не нужно никому» плюс «тоска, какой не погашу» — радости бытия тоже не добавляет.
Во втором стихотворении от Бунимовича, стоящем обособленно, синтезируются темы отрицания-пессимизма («не боялись не верили не просили», «ампир во время чумы», «ночью все кошки серы <…> все смыслы обречены») и судьбы-смерти («ночью пространство скукожено как догорает бумага / покуда мы здесь обозначены точками, А и В») с выходом на «судьбу» («с вершиной в окрестности Бога»).
Последняя троица — как бы радостная, потому что о любви. Однако и тут нужны уточнения. Вот последние четыре строки Полозковой: «…фонари, воздетые на столбы, / дышат чистым небытием. / мы лежим и дуем друг другу в лбы. / рыбам кажется, что поем». Ага, финальное «поем» — в паре с «небытием», то есть и тут Эрос не без Танатоса.
Да и у Добромыслова, если посмотреть на заголовок, не так все просто. Это ж, оказывается, «Подражание Маяковскому». И вот в таком ракурсе горячечно захлебывающиеся строки выглядят иначе — несколько суицидально, в духе «"инцидент исперчен", / любовная лодка / разбилась о быт».
Строки Веры Павловой — беспримесно светлые, тихий гимн семейному бытию как высшей, поистине сакральной ценности. Но вслушаемся: «что больше не боюсь ни простоты, / ни старости, что дом — прообраз храма, / что завтра — завтрак». Так ведь тоже получается что семья как святилище важна для преодоления страха старости (и видимо, смерти последующей).
2. «На нас не смотрят никогда» (Мария Степанова); «когда не нужно никому» (Евгений Бунимович); «И тоска, какой не погашу» (Демьян Кудрявцев).
3. «С вершиной в окрестности Бога больше равна судьбе» (Евгений Бунимович).
4. «Ты только люби, дорогая, хорошая» (Станислав Добромыслов); «рыбам кажется, что поем» (Вера Полозкова); «что завтра — завтрак» (Вера Павлова).
Показательные получаются группки, требующие, впрочем, некоторого пояснения. Скажем в первой «смертной» тройке только в «комаринской» тема смерти не главная, там «всего лишь» самоуничижение («Эх, лох ты, лох ты») да возвышенно саморазрушительное «веничкианство» («В моей бутылке булькал спирт»), логично заканчивающееся «дохлым комариком». Другой же фрагмент у Родионова смертью не только заканчивается, с нее и начинается: «Ты сказала утром мне / Знаешь, умер Дэвид Боуи».
Но вот уж где истинный Danse Macabre, так это у замечательной Линор Горалик: «В парке, под бобыльником простым / умирает старый молодым: / гордо, молча, с каменным лицом, — / словом, умирает молодцом. / Рядом, под клеменцией простой, / умирает старым молодой: / стонет, плачет, дергает лицом, — / тоже умирает молодцом».
Вторая тройка имени Пессимизма-Отрицания по толкованию сложней и разнообразней. Но желчная изжога финальных двойных отрицаний — «не смотрят никогда», «не нужно никому» плюс «тоска, какой не погашу» — радости бытия тоже не добавляет.
Во втором стихотворении от Бунимовича, стоящем обособленно, синтезируются темы отрицания-пессимизма («не боялись не верили не просили», «ампир во время чумы», «ночью все кошки серы <…> все смыслы обречены») и судьбы-смерти («ночью пространство скукожено как догорает бумага / покуда мы здесь обозначены точками, А и В») с выходом на «судьбу» («с вершиной в окрестности Бога»).
Последняя троица — как бы радостная, потому что о любви. Однако и тут нужны уточнения. Вот последние четыре строки Полозковой: «…фонари, воздетые на столбы, / дышат чистым небытием. / мы лежим и дуем друг другу в лбы. / рыбам кажется, что поем». Ага, финальное «поем» — в паре с «небытием», то есть и тут Эрос не без Танатоса.
Да и у Добромыслова, если посмотреть на заголовок, не так все просто. Это ж, оказывается, «Подражание Маяковскому». И вот в таком ракурсе горячечно захлебывающиеся строки выглядят иначе — несколько суицидально, в духе «"инцидент исперчен", / любовная лодка / разбилась о быт».
Строки Веры Павловой — беспримесно светлые, тихий гимн семейному бытию как высшей, поистине сакральной ценности. Но вслушаемся: «что больше не боюсь ни простоты, / ни старости, что дом — прообраз храма, / что завтра — завтрак». Так ведь тоже получается что семья как святилище важна для преодоления страха старости (и видимо, смерти последующей).
Итого. Наличие таких преобладающе макабрических межпрограммок на культовом интеллигентском Optimistic Channel ставит, как минимум, три вопроса. Каковы художественные истоки такого отбора? Как они отражают общественные настроения? И к чему они приводят?
Об истоках. Насколько я понимаю, данные поэтические межпрограммки ведут генеалогию от проекта «Серебряный век. Только на "Дожде"». А надо сказать, что Серебряный век явление большое и сложное, в усредненном массовом сознании воспринимается как нечто абсолютно прекрасное-светлое-чистое. И не только «чистое», но и очищающее — словно вода, настоянная на царском рубле, какую модно было пить в застойные годы. Поэтому, когда на канале решили перейти в межпрограммках к поэзии современной, то подсознательно выбирали нечто подобное «серебряно-вечному». Но, разумеется, не авангардно лихое, от наследников «О, рассмейтесь смехачи!», а более усредненное. То есть — непонятно-понятное или же просто понятное, но с обязательным элементом ночного, уксусно-мрачного декадентства.
По второму пункту. Новости плохие во всем мире «продаются» лучше хороших. А российский «Дождь» в этом смысле вообще в уникальной ситуации, поскольку в одиночку призван восполнить безбрежный optimism первых федеральных телеканалов. И как прелюдия к выпускам новостей «Избили», «Расчленили», «Разогнали», «Задержали», «Ой, кошечка!», «Не забудьте про донаты», «Надо же, освободили…» подобные межпрограммки не просто уместны, но и в высшей степени гармоничны.
Третье, что стоит отметить: такое НЛП обеспечивает надежную обратную связь, становясь самосбывающимся прогнозом. «На нас не смотрят никогда», да и ладно — чего шебуршиться, «все там будем», единственное утешение, «что завтра — завтрак». Я не хочу сказать, что смена контента в межпрограммках поменяет что-то и в жизни. Но то, что они в нынешнем виде несменяемости помогают, тоже, по-моему, достаточно очевидно.
…Так что встаю я утром и прокручивая заветные полминуты, восполняю убыток поэзии в доме произнесением авторского слогана: «"Дождь". Optimistic Channel! Кароч, все умерли…».
P. S. Вот еще прекрасную Горалик там же услышал: «Вот почему средь бела дня / жизнь оставила меня: / хоть любила-плакала, / простить обиду не смогла». В точку!
По второму пункту. Новости плохие во всем мире «продаются» лучше хороших. А российский «Дождь» в этом смысле вообще в уникальной ситуации, поскольку в одиночку призван восполнить безбрежный optimism первых федеральных телеканалов. И как прелюдия к выпускам новостей «Избили», «Расчленили», «Разогнали», «Задержали», «Ой, кошечка!», «Не забудьте про донаты», «Надо же, освободили…» подобные межпрограммки не просто уместны, но и в высшей степени гармоничны.
Третье, что стоит отметить: такое НЛП обеспечивает надежную обратную связь, становясь самосбывающимся прогнозом. «На нас не смотрят никогда», да и ладно — чего шебуршиться, «все там будем», единственное утешение, «что завтра — завтрак». Я не хочу сказать, что смена контента в межпрограммках поменяет что-то и в жизни. Но то, что они в нынешнем виде несменяемости помогают, тоже, по-моему, достаточно очевидно.
…Так что встаю я утром и прокручивая заветные полминуты, восполняю убыток поэзии в доме произнесением авторского слогана: «"Дождь". Optimistic Channel! Кароч, все умерли…».
P. S. Вот еще прекрасную Горалик там же услышал: «Вот почему средь бела дня / жизнь оставила меня: / хоть любила-плакала, / простить обиду не смогла». В точку!
Нейролингвистическое программирование. – Ред.
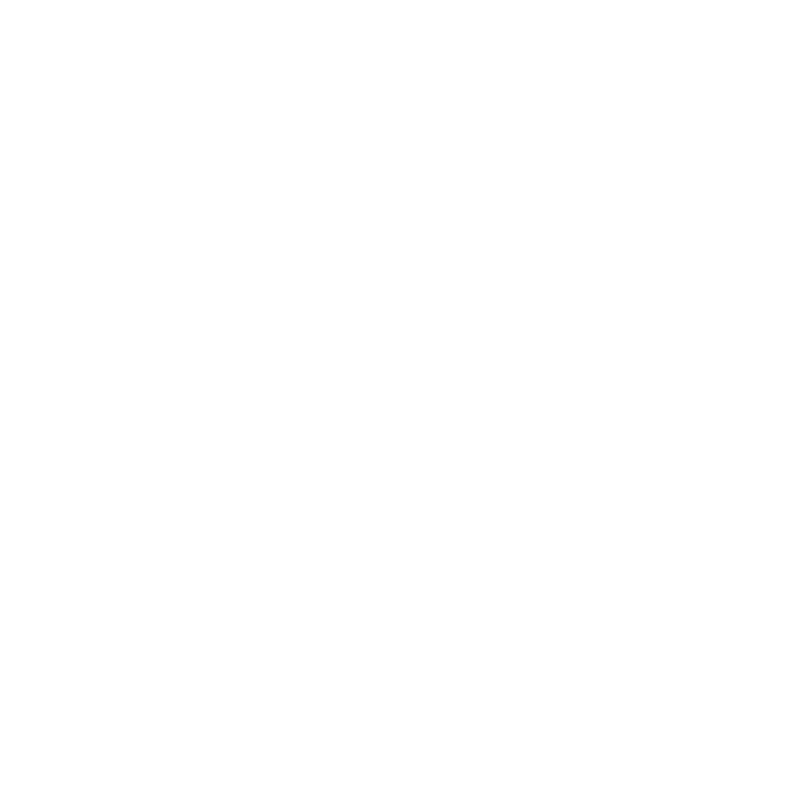
Елена Пестерева
Воздух на солнце прожарен, пух тополиный мелькает:
— Где же твои вологжане?
— За гаражами под облаками на молоке с мотыльками.
Ната Сучкова
В Вологде есть памятник Рубцову, остро-тоскливый. Он стоит в начале сквера, сквер у него за спиной, перед лицом — бессмысленные строения и ресторан-поплавок, по правую руку крутой берег и река, по левую — проезжая часть. Он стоит, такой как будто маленький и растерянный, в лихом шарфе, с аккуратным чемоданчиком, и не знает, что теперь делать, куда идти. Я езжу в Вологду много лет, раньше стояла и подолгу смотрела на него, теперь стараюсь обойти, не смотреть.
— Где же твои вологжане?
— За гаражами под облаками на молоке с мотыльками.
Ната Сучкова
В Вологде есть памятник Рубцову, остро-тоскливый. Он стоит в начале сквера, сквер у него за спиной, перед лицом — бессмысленные строения и ресторан-поплавок, по правую руку крутой берег и река, по левую — проезжая часть. Он стоит, такой как будто маленький и растерянный, в лихом шарфе, с аккуратным чемоданчиком, и не знает, что теперь делать, куда идти. Я езжу в Вологду много лет, раньше стояла и подолгу смотрела на него, теперь стараюсь обойти, не смотреть.
В Вологде есть памятник Батюшкову, мучительно-странный. Он стоит, спешившись, рядом с конем, перед ним Соборная площадь, за ним — крутой берег и река, огромный конь опустил голову и щиплет воображаемую травку, а Батюшков рядом с ним такой маленький и растерянный, стоит и не знает, что теперь делать, куда идти…
Мой первый приезд пришелся на время личной болезненной растерянности и тоски — что делать, куда идти. Приехала в вологодское отделение СРП на фестиваль «Плюсовая поэзия», никого там не зная, и получила что-то вроде прибежища. С 2012 года съездила к ним семь раз.
За это время творческие семинары вели Айзенберг, Василенко, Вежлян, Переверзин, Кубрик и другие достойные люди, книжки презентовали с десяток поэтических издательств, СП обзавелся деревянно-кружевной резиденцией и начал издательский проект. За это время Лета Югай получила премию «Дебют», а Наталья Мелехина — кучу других премий, Антон Черный уехал в Америку и вернулся, по пути перевел книгу стихов Георга Гейма и два тома немецких и английских поэтов Первой мировой, Наталья Боева перестала писать стихи и пошла работать в Музей кружева, а Мария Суворова пошла работать культурным журналистом на местное телевидение, но стихов писать не перестала. У Наты Сучковой вышло три сборника стихов, у Марии Марковой и Антона Черного — по два, у Андрея Таюшева — не меньше пяти тонких самиздатовских книг. Как будто целая жизнь прошла или большой ее кусок.
О них писали Елена Титова, Андрей Пермяков, Максим Алпатов и Марина Гарбер. Но исследовать вологодскую литературу начала 2000-х как единый живой организм давно уже хочется (насколько я слышу — не мне одной) и однажды придется. Просто не в этот раз.
В этот раз только несколько слов о новой книжке Сучковой. Книжка воймеговская — Сучкова в этом последовательна, очень маленькая — тридцать семь стихотворений, плотно тематически и интонационно организованная.
Мой первый приезд пришелся на время личной болезненной растерянности и тоски — что делать, куда идти. Приехала в вологодское отделение СРП на фестиваль «Плюсовая поэзия», никого там не зная, и получила что-то вроде прибежища. С 2012 года съездила к ним семь раз.
За это время творческие семинары вели Айзенберг, Василенко, Вежлян, Переверзин, Кубрик и другие достойные люди, книжки презентовали с десяток поэтических издательств, СП обзавелся деревянно-кружевной резиденцией и начал издательский проект. За это время Лета Югай получила премию «Дебют», а Наталья Мелехина — кучу других премий, Антон Черный уехал в Америку и вернулся, по пути перевел книгу стихов Георга Гейма и два тома немецких и английских поэтов Первой мировой, Наталья Боева перестала писать стихи и пошла работать в Музей кружева, а Мария Суворова пошла работать культурным журналистом на местное телевидение, но стихов писать не перестала. У Наты Сучковой вышло три сборника стихов, у Марии Марковой и Антона Черного — по два, у Андрея Таюшева — не меньше пяти тонких самиздатовских книг. Как будто целая жизнь прошла или большой ее кусок.
О них писали Елена Титова, Андрей Пермяков, Максим Алпатов и Марина Гарбер. Но исследовать вологодскую литературу начала 2000-х как единый живой организм давно уже хочется (насколько я слышу — не мне одной) и однажды придется. Просто не в этот раз.
В этот раз только несколько слов о новой книжке Сучковой. Книжка воймеговская — Сучкова в этом последовательна, очень маленькая — тридцать семь стихотворений, плотно тематически и интонационно организованная.
Она разом про вологодские окраины и литературу, в ней облака из молока, молоко из ваты, вата из молочной пены, ватник носят Мандельштам и деды пригорода, по облакам ходят и окают коровы, Пушкин переписывается с Дельвигом в Instagram, а «над зеленой Русью» летят велосипед, самокат и синий трактор «Беларусь».
За дорогим мне Натиным голосом звучат другие дорогие голоса: с самолета пересаживался на самокат и доезжал до последнего березнячка герой Олега Чухонцева в «А березова кукушечка зимой не куковат…», в тракторе «Беларусь» вил гнездо монах Вера у Дмитрия Строцева. Во фрагменте «он потом наверняка — выдержал ли лед? — / у прибрежного ларька за угол свернет» мне послышалось «Синеватое облако…» Георгия Иванова, и интервью Людмилы Егоровой с Сучковой мою версию подтвердило.
Интервью вообще познавательное, многое в стихотворениях Сучковой объясняющее. Кто эти бабы Нюры, бабы Вали, дед Никола, дед Борис, может быть, для текста и не важно — какие-то родственники, несложно догадаться, — но читателю необходимо понимать, почему они имеют такое значение в мире автора, почему так важно их вспомнить, описать, наделить голосами, ненадолго оживить и «котиков, схороненных Люсей», и Люсин умывальник.
В том же интервью Сучкова вдруг говорит: «Прошли те времена, когда меня смущали приблизительные рифмы, отпала необходимость <…> "строить забор" — когда рисуешь схему ударно-безударных слогов, чтобы шаткое сооружение стиха не завалилось на соседский сарай. Завалится — так и славно». Теперешние рифмы небанальные, приятные на слух и ассонансные (диссонансной, кстати, ни одной). Размер может от строфы к строфе измениться, 4-стопный может стать 5-стопным, усеченный — полным, цезура может побыть да и сплыть. Выглядит ли это как решение конкретной художественной задачи? Нет, сейчас не выглядит. Сейчас выглядит как этап. Шаткое строение чуть кренится, потому что автор ослабил гайки, но не падает. А хочется, чтобы уже упало, рассыпалось на щепы, а потом заново собралось в такое же, да не такое.
Разрушается родовая синтаксическая связь: «Шарик стеклянный, ларек оловянный, / я — буратино твоя, деревянный», «он на синем летит "Беларусе"». Формально разрушение оправданно. Буратино и в самом деле любого рода, он кукла с окончанием среднего, а трактор действительно мужского. На синего белоруса я интуитивно согласна, летал же Вакула на черте, но вот «Беларусь» мужского рода пережить сложнее. В «Деревенской прозе» (2011) и «Ходе вещей» (2014) я таких вольностей за автором не помню — но хорошо, что они есть.
И последнее наблюдение: читаешь, убаюканный подробностями советского быта с алюминиевыми подойниками, чугунными ваннами и прочими кадушками, а иной раз вздрогнешь — встретишь строчку, обрушающую всю «деревенскую прозу»: «первоклассники целуют медвежат». Ну хорошо, обычные первоклассники, может быть, даже советские, и обычные медвежата, которые, конечно, в Вологде ходят по улицам, или даже олимпийские медвежата на открытках к 1 сентября, ну целуют они их, может, от радости, что снова в школу, я не знаю. А потом догадаешься, что происходит на самом деле. Это Кристофер Робин уходит от нас — из мира алюминиевых подойников. И целует их на прощанье.
Вся книга тогда звучит как прощание с прежней эстетикой, потому что «вытряхивай свою убогую / и понимай, что вырос ты / из фрака, из шинели Гоголя» и выплыл в открытую воду...
и дернется вниз ресторан «Поплавок»,
и рыба попалась большая.
Интервью вообще познавательное, многое в стихотворениях Сучковой объясняющее. Кто эти бабы Нюры, бабы Вали, дед Никола, дед Борис, может быть, для текста и не важно — какие-то родственники, несложно догадаться, — но читателю необходимо понимать, почему они имеют такое значение в мире автора, почему так важно их вспомнить, описать, наделить голосами, ненадолго оживить и «котиков, схороненных Люсей», и Люсин умывальник.
В том же интервью Сучкова вдруг говорит: «Прошли те времена, когда меня смущали приблизительные рифмы, отпала необходимость <…> "строить забор" — когда рисуешь схему ударно-безударных слогов, чтобы шаткое сооружение стиха не завалилось на соседский сарай. Завалится — так и славно». Теперешние рифмы небанальные, приятные на слух и ассонансные (диссонансной, кстати, ни одной). Размер может от строфы к строфе измениться, 4-стопный может стать 5-стопным, усеченный — полным, цезура может побыть да и сплыть. Выглядит ли это как решение конкретной художественной задачи? Нет, сейчас не выглядит. Сейчас выглядит как этап. Шаткое строение чуть кренится, потому что автор ослабил гайки, но не падает. А хочется, чтобы уже упало, рассыпалось на щепы, а потом заново собралось в такое же, да не такое.
Разрушается родовая синтаксическая связь: «Шарик стеклянный, ларек оловянный, / я — буратино твоя, деревянный», «он на синем летит "Беларусе"». Формально разрушение оправданно. Буратино и в самом деле любого рода, он кукла с окончанием среднего, а трактор действительно мужского. На синего белоруса я интуитивно согласна, летал же Вакула на черте, но вот «Беларусь» мужского рода пережить сложнее. В «Деревенской прозе» (2011) и «Ходе вещей» (2014) я таких вольностей за автором не помню — но хорошо, что они есть.
И последнее наблюдение: читаешь, убаюканный подробностями советского быта с алюминиевыми подойниками, чугунными ваннами и прочими кадушками, а иной раз вздрогнешь — встретишь строчку, обрушающую всю «деревенскую прозу»: «первоклассники целуют медвежат». Ну хорошо, обычные первоклассники, может быть, даже советские, и обычные медвежата, которые, конечно, в Вологде ходят по улицам, или даже олимпийские медвежата на открытках к 1 сентября, ну целуют они их, может, от радости, что снова в школу, я не знаю. А потом догадаешься, что происходит на самом деле. Это Кристофер Робин уходит от нас — из мира алюминиевых подойников. И целует их на прощанье.
Вся книга тогда звучит как прощание с прежней эстетикой, потому что «вытряхивай свою убогую / и понимай, что вырос ты / из фрака, из шинели Гоголя» и выплыл в открытую воду...
и дернется вниз ресторан «Поплавок»,
и рыба попалась большая.
Вестник ВоГУ. 2019. № 3(14). С. 64.
Страна. М.: Воймега, 2019.
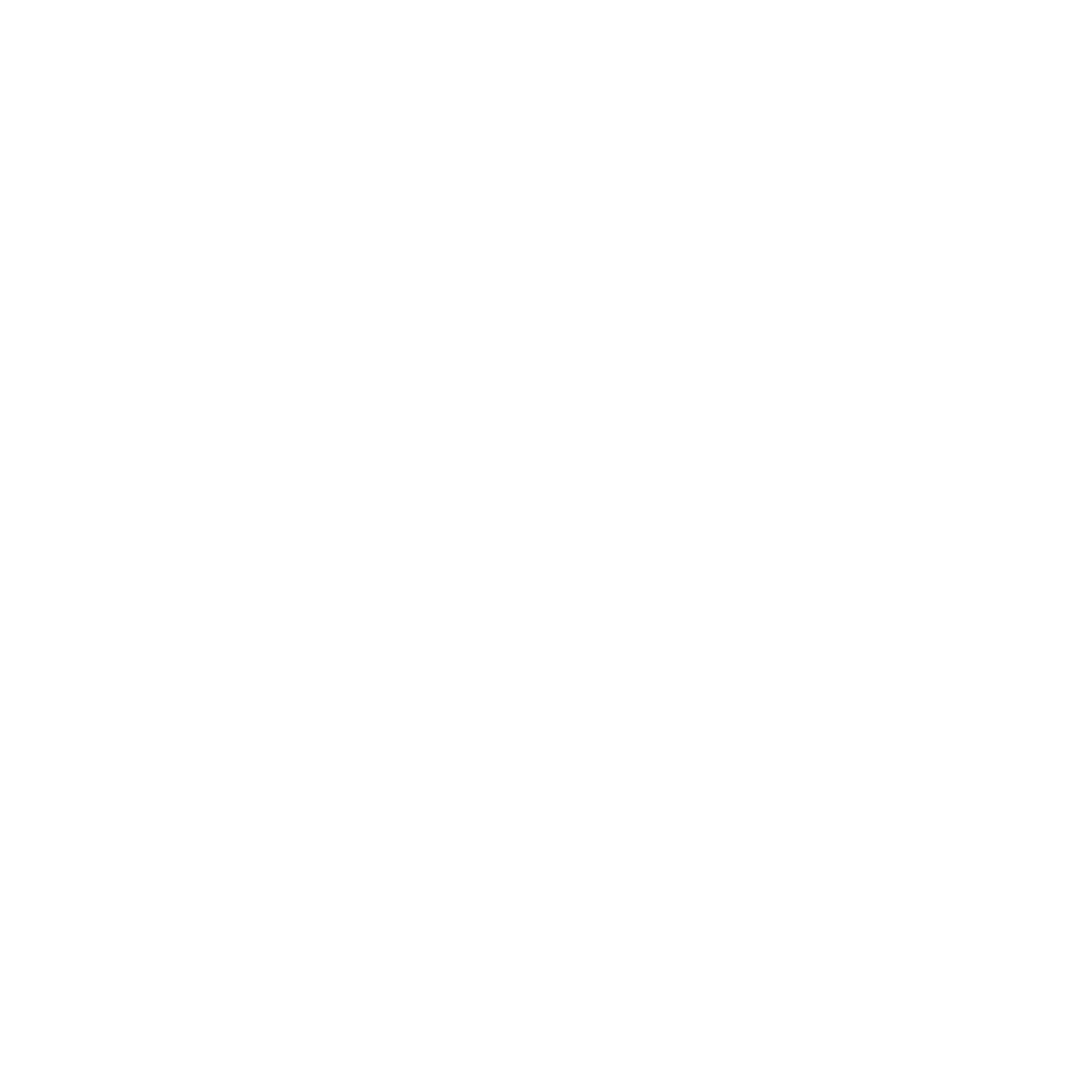
акробат истероид ботва
из речений Александра Гаврилова
Говорят, Гаврилов похож на Делакруа. По-моему, он похож пополам на Рембрандта с Muddy Watersом. Когда носится по сцене — на отбившегося члена группы Metallica. Недавно «Метла» сыграла «Группу крови» (говенно, отдать должное, сыграла). Мы еще доживем, когда Александр Гаврилов будет в натуре выступать, а «Метла» будет у него на подтанцовке. Reading is FANdamental.
Для меня Гаврилов в первую очередь ассоциируется с рассказом Зощенко (первый мой рассказ Зощенко вслух) «Нервные люди». Там есть такой инвалид Гаврилов, который входит в кухню, говорит: «"Что за шум, а драки нету?" — Тут-то драка и подтвердилась». По результатам драки инвалида Гаврилова бьют кастрюлей по голове, «он брык на пол и скучает».
А я скучаю по шансону. Мало стало шансона в транспорте.
из речений Александра Гаврилова
Говорят, Гаврилов похож на Делакруа. По-моему, он похож пополам на Рембрандта с Muddy Watersом. Когда носится по сцене — на отбившегося члена группы Metallica. Недавно «Метла» сыграла «Группу крови» (говенно, отдать должное, сыграла). Мы еще доживем, когда Александр Гаврилов будет в натуре выступать, а «Метла» будет у него на подтанцовке. Reading is FANdamental.
Для меня Гаврилов в первую очередь ассоциируется с рассказом Зощенко (первый мой рассказ Зощенко вслух) «Нервные люди». Там есть такой инвалид Гаврилов, который входит в кухню, говорит: «"Что за шум, а драки нету?" — Тут-то драка и подтвердилась». По результатам драки инвалида Гаврилова бьют кастрюлей по голове, «он брык на пол и скучает».
А я скучаю по шансону. Мало стало шансона в транспорте.
Пунктуация и орфография автора сохранены. — Ред.
В уже традиционных интервью Борису Кутенкову Гаврилов говорит: «С горечью и тоской я вынужден констатировать, что единого культурного пространства, которое нам грезилось в юношеских социалистических мечтаниях, построить не удается, не дается оно в руки. Это не значит, что маленькие проекты не нужно делать. Нужно».
Мне недавно попался русско-итальянский Фет. Видимо, результат маленького, но очень гордого культурного проекта. Фет, кстати, хороший поэт, его надо больше читать. Читаю-читаю, слова легкие. И в переводе «Добра и зла» нахожу следующую странность. «Пари, всезрящий и всесильный» переводится «Fustiga onniveggente e onnipotente». То есть «пори» вместо «пари». Переводчик — «отец итальянской славистики» Этторэ ло Гатто (он же Гектор Котов). И задаю я немой вопрос Александру Гаврилову как «запевале читательского хора» — Доколе? и Почем?.. Зачем выпускать и пропечатывать очередные книжки, если настоящим образом пока не прочитаны книжки давно уже печатные?..
Что такое книга?.. Верига, ханыга, барыга, шишига?..
Мне недавно попался русско-итальянский Фет. Видимо, результат маленького, но очень гордого культурного проекта. Фет, кстати, хороший поэт, его надо больше читать. Читаю-читаю, слова легкие. И в переводе «Добра и зла» нахожу следующую странность. «Пари, всезрящий и всесильный» переводится «Fustiga onniveggente e onnipotente». То есть «пори» вместо «пари». Переводчик — «отец итальянской славистики» Этторэ ло Гатто (он же Гектор Котов). И задаю я немой вопрос Александру Гаврилову как «запевале читательского хора» — Доколе? и Почем?.. Зачем выпускать и пропечатывать очередные книжки, если настоящим образом пока не прочитаны книжки давно уже печатные?..
Что такое книга?.. Верига, ханыга, барыга, шишига?..
Вполне вероятно, что для Гаврилова книга — верига и шишига, недаром оресторанился он, приравняв книгу к блюду, а перо к пиру.
Неспроста проскочило у Гаврилова в ютуб-беседе «еще немного пожевать текст». Он рассказывал о пользе редактуры для Солженицына и прочих совписов, которых обругал «одутловатыми». Но если современные писы будут ресторанствовать, то не грозит ли им аналогичная «одутловатость»?..
Для меня книга — грамота (буквы), письмо, ярлык (слово от старшего младшему). Первый этап чтения — это кроссворд, когда слова нужно увязывать. Потом еще какое-то время читаешь, представляя себе смысл слов как бы через мутное стекло. И пропускаешь прилагательные, когда их начинаешь отличать от других частей речи. С другой стороны, я понимаю, что чтение сейчас — это такое современное искусство (советский риск), я это понимаю за счет того, что сам половину книг, взятых из библиотеки, возвращаю непрочтенными, и непрочтенные же стоят у меня на полках. Ну и понятно, что все то хорошее, что издается ежечасно, читается в лучшем случае на троечку. У меня с детства есть привычка беречь бумагу, поэтому я сочиняю на обертках и чеках — это очень экологично. Минус этого — стремление, как Гаспаров, все пространство почерком покрыть. А работая с флэш-картами (ведь разве чтение не должно все-таки улучшать нашу память?), увидел, что чем больше пробел, тем лучше запоминается слово. Кстати, вспомнилась книжка, кажется, Быкова, с таким похабно крупным шрифтом, который как будто предлагает переписать всю книжку заново. Это, вероятно, прообраз книг с подвижным текстом специально для шизоидов, любящих правку.
Зачем культуртрегер Гаврилов (как перевести «культуртрегер»?.. неужели «богоносец»?..) наехал на критика Валерию Пустовую?.. Взыграло культуртрегерское?.. Или культурфельдъегерское? «Мне кажется, что…» и «мне представляется» Гаврилов говорит (это не однокоренное часом?..) с такой интонацией, чтобы подчеркнуть, что это его мнение и что это его strong мнение. Это аналог наринского «мне кажется, это абсолютно». Я бы на их месте говорил: «Я лгу, и все, что я говорю, — чистая правда».
Все можно простить Гаврилову за то, что он перечитывает Данте. Вообще Данте сейчас перечитывают чаще, чем об этом принято говорить вслух, даже недовольный пупс Долин. Предложение старику Гаврилову: организовать в Якутии, в кимберлитовой трубке перипатетический семинар по Данте. Я пока тренироваюсь с песней от остановки к остановке, наш город, как известно, в длину веселее Москвы.
P. S. Давно пора связать книжную тему с пищевой настоящим образом:
1) разработкой съедобной бумаги и чернил, как в детских рассказах о Ленине: читаешь книгу и в процессе чтения ей же закусываешь — как секс у паукообразных, 2) укрощением текста до размеров испомещения в пределах обертки. Я с некоторых пор занимаюсь микрожанрами вроде флэш-карт (плоть-книг) и рунических надписей. Думаю, от нас тоже останется одна обертка и загадочные торговые марки, после того, как мы сожрем-сожжем все книги.
Для меня книга — грамота (буквы), письмо, ярлык (слово от старшего младшему). Первый этап чтения — это кроссворд, когда слова нужно увязывать. Потом еще какое-то время читаешь, представляя себе смысл слов как бы через мутное стекло. И пропускаешь прилагательные, когда их начинаешь отличать от других частей речи. С другой стороны, я понимаю, что чтение сейчас — это такое современное искусство (советский риск), я это понимаю за счет того, что сам половину книг, взятых из библиотеки, возвращаю непрочтенными, и непрочтенные же стоят у меня на полках. Ну и понятно, что все то хорошее, что издается ежечасно, читается в лучшем случае на троечку. У меня с детства есть привычка беречь бумагу, поэтому я сочиняю на обертках и чеках — это очень экологично. Минус этого — стремление, как Гаспаров, все пространство почерком покрыть. А работая с флэш-картами (ведь разве чтение не должно все-таки улучшать нашу память?), увидел, что чем больше пробел, тем лучше запоминается слово. Кстати, вспомнилась книжка, кажется, Быкова, с таким похабно крупным шрифтом, который как будто предлагает переписать всю книжку заново. Это, вероятно, прообраз книг с подвижным текстом специально для шизоидов, любящих правку.
Зачем культуртрегер Гаврилов (как перевести «культуртрегер»?.. неужели «богоносец»?..) наехал на критика Валерию Пустовую?.. Взыграло культуртрегерское?.. Или культурфельдъегерское? «Мне кажется, что…» и «мне представляется» Гаврилов говорит (это не однокоренное часом?..) с такой интонацией, чтобы подчеркнуть, что это его мнение и что это его strong мнение. Это аналог наринского «мне кажется, это абсолютно». Я бы на их месте говорил: «Я лгу, и все, что я говорю, — чистая правда».
Все можно простить Гаврилову за то, что он перечитывает Данте. Вообще Данте сейчас перечитывают чаще, чем об этом принято говорить вслух, даже недовольный пупс Долин. Предложение старику Гаврилову: организовать в Якутии, в кимберлитовой трубке перипатетический семинар по Данте. Я пока тренироваюсь с песней от остановки к остановке, наш город, как известно, в длину веселее Москвы.
P. S. Давно пора связать книжную тему с пищевой настоящим образом:
1) разработкой съедобной бумаги и чернил, как в детских рассказах о Ленине: читаешь книгу и в процессе чтения ей же закусываешь — как секс у паукообразных, 2) укрощением текста до размеров испомещения в пределах обертки. Я с некоторых пор занимаюсь микрожанрами вроде флэш-карт (плоть-книг) и рунических надписей. Думаю, от нас тоже останется одна обертка и загадочные торговые марки, после того, как мы сожрем-сожжем все книги.
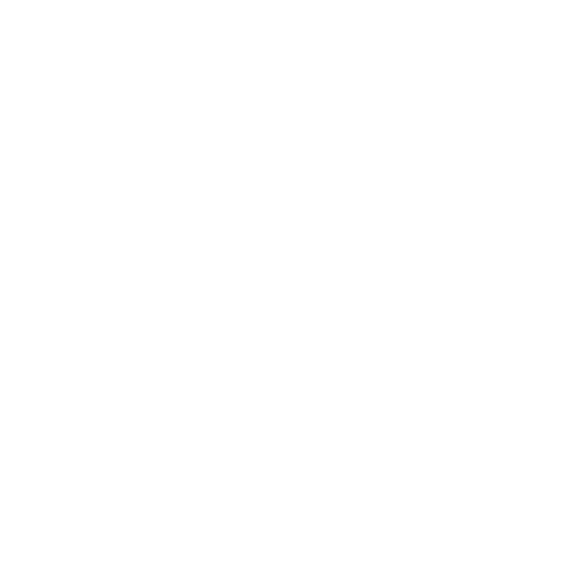
Станислав Секретов
Имен не будет. Умные поймут — дураки о существовании «Легкой кавалерии», «Вопросов литературы» и других толстых журналов не знают.
Фанаты называют ее «главным литературным критиком», «лучшим литературным критиком» и даже «единственным литературным критиком» современной России, кичась собственным невежеством.
«Главный»? Похоже, мы дружно профукали всенародные критические выборы, где ее избрали главной. Где то большинство? Где результаты выборов главного? И как тогда прикажете называть остальных критиков? Второстепенными? Критиками второго ряда? Ах да, их же не существует…
«Лучший»? Тоже сразу хочется задать массу уточняющих вопросов. Лучший по каким критериям? И где можно познакомиться с общим рейтингом, в котором именно этот критик — лучший?
Фанаты называют ее «главным литературным критиком», «лучшим литературным критиком» и даже «единственным литературным критиком» современной России, кичась собственным невежеством.
«Главный»? Похоже, мы дружно профукали всенародные критические выборы, где ее избрали главной. Где то большинство? Где результаты выборов главного? И как тогда прикажете называть остальных критиков? Второстепенными? Критиками второго ряда? Ах да, их же не существует…
«Лучший»? Тоже сразу хочется задать массу уточняющих вопросов. Лучший по каким критериям? И где можно познакомиться с общим рейтингом, в котором именно этот критик — лучший?
По версии всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» лучший критик у нас совсем другой. В списках лауреатов литературных журналов за лучшие критические публикации любого года ее имя тоже не значится.
Любите бросаться превосходными степенями — ваше право. Но уточняйте хотя бы: «лучший, на мой взгляд», «лучший, по мнению альфы, беты и омеги»…
«Единственный»? Апофеоз глупости! Правда, некоторые справедливо уточняют: «единственный из критиков, кто своими обзорами способен влиять на книжные продажи». Но точно ли это определяющая добродетель литературного критика? Может быть, все-таки тогда не критика, а мерчандайзера? В некрологах, посвященных недавно ушедшему от нас замечательному литературному критику и литературоведу, лауреату целого ряда премий, никто не сказал о его влиянии на книжные продажи. Вспоминали его слова, его позицию, его талант, его мудрость и обаяние…
Ну хоть «Википедия» беспристрастна. Там «главного», «лучшего» и «единственного» аттестуют объективно — как «обозревателя интернет-издания», «самого известного критика в Рунете» и «одного из самых популярных критиков в современной русской литературе». Одного из… Книжный обозреватель, известный и популярный критик — ни убавить, ни прибавить. Все правда. А памятники при жизни и золотые короны — дело богомерзкое.
Не обижайтесь.
Вспомните вторую заповедь.
Критиков у нас много.
Все хороши по-своему.
Все до единого.
Без ненужных эпитетов.
Любите бросаться превосходными степенями — ваше право. Но уточняйте хотя бы: «лучший, на мой взгляд», «лучший, по мнению альфы, беты и омеги»…
«Единственный»? Апофеоз глупости! Правда, некоторые справедливо уточняют: «единственный из критиков, кто своими обзорами способен влиять на книжные продажи». Но точно ли это определяющая добродетель литературного критика? Может быть, все-таки тогда не критика, а мерчандайзера? В некрологах, посвященных недавно ушедшему от нас замечательному литературному критику и литературоведу, лауреату целого ряда премий, никто не сказал о его влиянии на книжные продажи. Вспоминали его слова, его позицию, его талант, его мудрость и обаяние…
Ну хоть «Википедия» беспристрастна. Там «главного», «лучшего» и «единственного» аттестуют объективно — как «обозревателя интернет-издания», «самого известного критика в Рунете» и «одного из самых популярных критиков в современной русской литературе». Одного из… Книжный обозреватель, известный и популярный критик — ни убавить, ни прибавить. Все правда. А памятники при жизни и золотые короны — дело богомерзкое.
Не обижайтесь.
Вспомните вторую заповедь.
Критиков у нас много.
Все хороши по-своему.
Все до единого.
Без ненужных эпитетов.
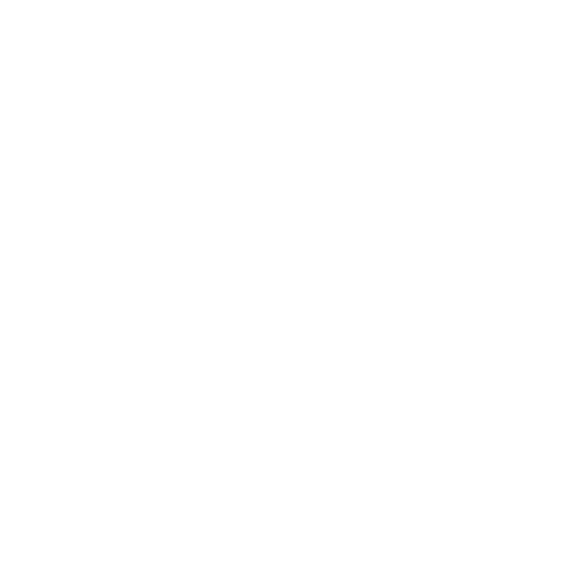
Евгений Абдуллаев
Еще раз о филологизирующей критике.
Конкретнее — о недавней дискуссии вокруг стихотворения Елены Михайлик «В тридцать четвертом он еще не знал, что он парижанин…».
Сразу скажу, стихотворение Михайлик особого отторжения у меня не вызвало. По крайней мере, «мертвого нарратива с вялыми вкраплениями блеклой иронии», о котором пишет в позапрошлой «Кавалерии» Константин Комаров, в нем не увидел.
Елена Михайлик — поздний представитель той линии, к которой можно отнести Алексея Макушинского, Шамшада Абдуллаева, Александра Бараша, Игоря Вишневецкого… Медитативные, неторопливые, культуронасыщенные стихи со множеством скрытых цитат и литературных аллюзий. Линия, возникшая в 80-е как реакция на массовую советскую поэзию (с ее культом «понятности») и на сегодняшний день во многом уже исчерпанная. Хотя «Средиземноморскую ноту» Бараша и «Свет за деревьями» Макушинского и сегодня считаю замечательными книгами.
Конкретнее — о недавней дискуссии вокруг стихотворения Елены Михайлик «В тридцать четвертом он еще не знал, что он парижанин…».
Сразу скажу, стихотворение Михайлик особого отторжения у меня не вызвало. По крайней мере, «мертвого нарратива с вялыми вкраплениями блеклой иронии», о котором пишет в позапрошлой «Кавалерии» Константин Комаров, в нем не увидел.
Елена Михайлик — поздний представитель той линии, к которой можно отнести Алексея Макушинского, Шамшада Абдуллаева, Александра Бараша, Игоря Вишневецкого… Медитативные, неторопливые, культуронасыщенные стихи со множеством скрытых цитат и литературных аллюзий. Линия, возникшая в 80-е как реакция на массовую советскую поэзию (с ее культом «понятности») и на сегодняшний день во многом уже исчерпанная. Хотя «Средиземноморскую ноту» Бараша и «Свет за деревьями» Макушинского и сегодня считаю замечательными книгами.
Михайлик, пожалуй, самый филологический поэт этой линии; по числу эпиграфов и цитаций — однозначно. Но это, по крайней мере, не претенциозная филологическая графомания, выдаваемая за нечто новейшее. Стихи Михайлик вполне традиционны и по-своему обаятельны. Включая и «В тридцать четвертом он еще не знал, что он парижанин…». Разве что «гостья из Самарры» как субститут «смерти» выглядит в контексте стихотворения несколько искусственно: для чего понадобилось приплетать Моэма и вавилонскую притчу к сюжету про революционера, не ясно. Но что поделать, таково свойство филологизирующей поэзии: больше интертекстов хороших и разных.
Вообще, говорить об этом тексте здесь не имело бы смысла, если бы вокруг него не забурлили критические страсти.
Что произошло? Столкнулись две критические парадигмы. Условно говоря, «вкусовая» и «филологизирующая».
Константин Комаров — критик «вкусовой». Прочитав текст Михайлик, он совершенно точно уловил инородность этой «Самарры». Правда, решил, что под «гостьей из Самарры» имеется в виду какая-то девушка. Ошибка? Да. Но в плане оценки стихотворения не такая уж существенная. Критик не обязан разгадывать все авторские ребусы, — отнимая тем самым хлеб у литературоведов. Для «вкусовой» критики важно другое — насколько стихотворение является поэтической удачей, насколько оно добавляет что-то новое — если не к массиву уже написанных текстов, то к нашему виденью, пониманию мира. И Комаров формулирует свой отзыв на стихотворение Михайлик вполне точно и внятно. Хотя, повторюсь, мой отзыв был бы мягче.
Что происходит дальше? Отзыв Комарова попадается на глаза Дмитрию Кузьмину. Следует вариация на тему «Акела промахнулся!». «Константин Комаров не знает, — пишет у себя в ФБ Кузьмин, — что такое "свидание в Самарре", — ни непосредственно из пересказанной Сомерсетом Моэмом древневавилонской притчи, ни из романа Джона О'Хары, ни просто из, так сказать, воздуха культуры». И не просто не знает, добавляет Кузьмин, но не потрудился погуглить. Следует вывод: «Вот именно на этом уровне понимания ученая, но так и не выученная сволочь из "Воплей" и читает современную поэзию».
Тут, конечно, можно было бы порассуждать, прилично ли коллег по цеху — даже очень тебе несимпатичных — называть «невыученной сволочью». Но что поделать — Кузьмин ни одного полемического отклика написать уже не может, чтобы не уснастить его чем-нибудь вроде: «бессвязное соплежуйство», «полная херня», «унылая х***я, с которой мне неинтересно даже полемизировать»… За ним и прежде такое водилось, но как-то реже: писал развернутые критические статьи, пытался концептуализировать, публиковался в журналах. Приходилось соответствовать и сдерживаться. Последние годы, когда почти вся критическая продукция Кузьмина ужалась до постов и комментариев в соцсетях, критик, чувствуется, расслабился.
Дело, однако, не в лексике, дело в позиции. В филологизирующей критике, для которой оценка стихотворения лежит в совершенно иной плоскости, если вообще можно говорить здесь об оценке. То, что для вкусовой критики является второстепенным — разгадывание литературных контекстов, скрытых цитат и аллюзий, для критики филологизирующией — главнее главного.
Это показал и пост Кузьмина, и комментарии к нему. Общественность, как говорится, была глубоко возмущена. «И референса к "В Гамале все погибли, кроме двух сестер Филиппа…" Юрия Михайлика он (Комаров. — Е. А.) тоже не увидел. Точнее, даже не просто референса, а явного спора с тезисами Михайлика-старшего», — восклицает некто под ником «Lennie Lee Gerke». Параллельно допытывались у Елены Михайлик (тут же обнаружившейся), кто же все-таки был тем самым революционером. «Арбен Давтян, он же Таров. Он ей ("гостье из Самарры". — Е. А.), кажется, действительно понравился», — отвечала Михайлик.
В общем, заодно еще поупражнялись в интерпретации и изрядно продвинулись в реконструкции авторского замысла.
Плохо это? Да нет, нормальная литературоведческая практика. Плохо, когда это начинает подменять собой литературную критику. Поскольку никто — даже из тех, кто в ФБ Кузьмина нахваливал стихотворение Михайлик, не мог внятно сказать, а чем же собственно стихотворение Михайлик хорошо, — кроме обнаруженных в нем «референсов» и заявления Кузьмина, что «в свете свежевышедшей книги [Михайлик] ''Экспедиция'' оно еще приобретает дополнительные обертона» (они же — обертоны).
И тут мне, признаться, ближе позиция Комарова — это живой критик, с живой реакцией на стихи. Даже когда ошибается — так у кого ошибок не бывает? И у Кузьмина бывали, о чем мне приходилось писать; и у меня бывали… Но есть ошибки случайные — а есть серьезные, методологические. И филологизирующая критика, на мой взгляд, — и есть результат такой ошибки, все более распространенной и все более — в лице своих адептов — агрессивной. Но тут, исчерпав лимит отведенных мне знаков, должен поставить точку. Точнее, многоточие, — планируя вернуться к этой теме в другом, менее «кавалерийском» и более детальном разговоре.
Вообще, говорить об этом тексте здесь не имело бы смысла, если бы вокруг него не забурлили критические страсти.
Что произошло? Столкнулись две критические парадигмы. Условно говоря, «вкусовая» и «филологизирующая».
Константин Комаров — критик «вкусовой». Прочитав текст Михайлик, он совершенно точно уловил инородность этой «Самарры». Правда, решил, что под «гостьей из Самарры» имеется в виду какая-то девушка. Ошибка? Да. Но в плане оценки стихотворения не такая уж существенная. Критик не обязан разгадывать все авторские ребусы, — отнимая тем самым хлеб у литературоведов. Для «вкусовой» критики важно другое — насколько стихотворение является поэтической удачей, насколько оно добавляет что-то новое — если не к массиву уже написанных текстов, то к нашему виденью, пониманию мира. И Комаров формулирует свой отзыв на стихотворение Михайлик вполне точно и внятно. Хотя, повторюсь, мой отзыв был бы мягче.
Что происходит дальше? Отзыв Комарова попадается на глаза Дмитрию Кузьмину. Следует вариация на тему «Акела промахнулся!». «Константин Комаров не знает, — пишет у себя в ФБ Кузьмин, — что такое "свидание в Самарре", — ни непосредственно из пересказанной Сомерсетом Моэмом древневавилонской притчи, ни из романа Джона О'Хары, ни просто из, так сказать, воздуха культуры». И не просто не знает, добавляет Кузьмин, но не потрудился погуглить. Следует вывод: «Вот именно на этом уровне понимания ученая, но так и не выученная сволочь из "Воплей" и читает современную поэзию».
Тут, конечно, можно было бы порассуждать, прилично ли коллег по цеху — даже очень тебе несимпатичных — называть «невыученной сволочью». Но что поделать — Кузьмин ни одного полемического отклика написать уже не может, чтобы не уснастить его чем-нибудь вроде: «бессвязное соплежуйство», «полная херня», «унылая х***я, с которой мне неинтересно даже полемизировать»… За ним и прежде такое водилось, но как-то реже: писал развернутые критические статьи, пытался концептуализировать, публиковался в журналах. Приходилось соответствовать и сдерживаться. Последние годы, когда почти вся критическая продукция Кузьмина ужалась до постов и комментариев в соцсетях, критик, чувствуется, расслабился.
Дело, однако, не в лексике, дело в позиции. В филологизирующей критике, для которой оценка стихотворения лежит в совершенно иной плоскости, если вообще можно говорить здесь об оценке. То, что для вкусовой критики является второстепенным — разгадывание литературных контекстов, скрытых цитат и аллюзий, для критики филологизирующией — главнее главного.
Это показал и пост Кузьмина, и комментарии к нему. Общественность, как говорится, была глубоко возмущена. «И референса к "В Гамале все погибли, кроме двух сестер Филиппа…" Юрия Михайлика он (Комаров. — Е. А.) тоже не увидел. Точнее, даже не просто референса, а явного спора с тезисами Михайлика-старшего», — восклицает некто под ником «Lennie Lee Gerke». Параллельно допытывались у Елены Михайлик (тут же обнаружившейся), кто же все-таки был тем самым революционером. «Арбен Давтян, он же Таров. Он ей ("гостье из Самарры". — Е. А.), кажется, действительно понравился», — отвечала Михайлик.
В общем, заодно еще поупражнялись в интерпретации и изрядно продвинулись в реконструкции авторского замысла.
Плохо это? Да нет, нормальная литературоведческая практика. Плохо, когда это начинает подменять собой литературную критику. Поскольку никто — даже из тех, кто в ФБ Кузьмина нахваливал стихотворение Михайлик, не мог внятно сказать, а чем же собственно стихотворение Михайлик хорошо, — кроме обнаруженных в нем «референсов» и заявления Кузьмина, что «в свете свежевышедшей книги [Михайлик] ''Экспедиция'' оно еще приобретает дополнительные обертона» (они же — обертоны).
И тут мне, признаться, ближе позиция Комарова — это живой критик, с живой реакцией на стихи. Даже когда ошибается — так у кого ошибок не бывает? И у Кузьмина бывали, о чем мне приходилось писать; и у меня бывали… Но есть ошибки случайные — а есть серьезные, методологические. И филологизирующая критика, на мой взгляд, — и есть результат такой ошибки, все более распространенной и все более — в лице своих адептов — агрессивной. Но тут, исчерпав лимит отведенных мне знаков, должен поставить точку. Точнее, многоточие, — планируя вернуться к этой теме в другом, менее «кавалерийском» и более детальном разговоре.
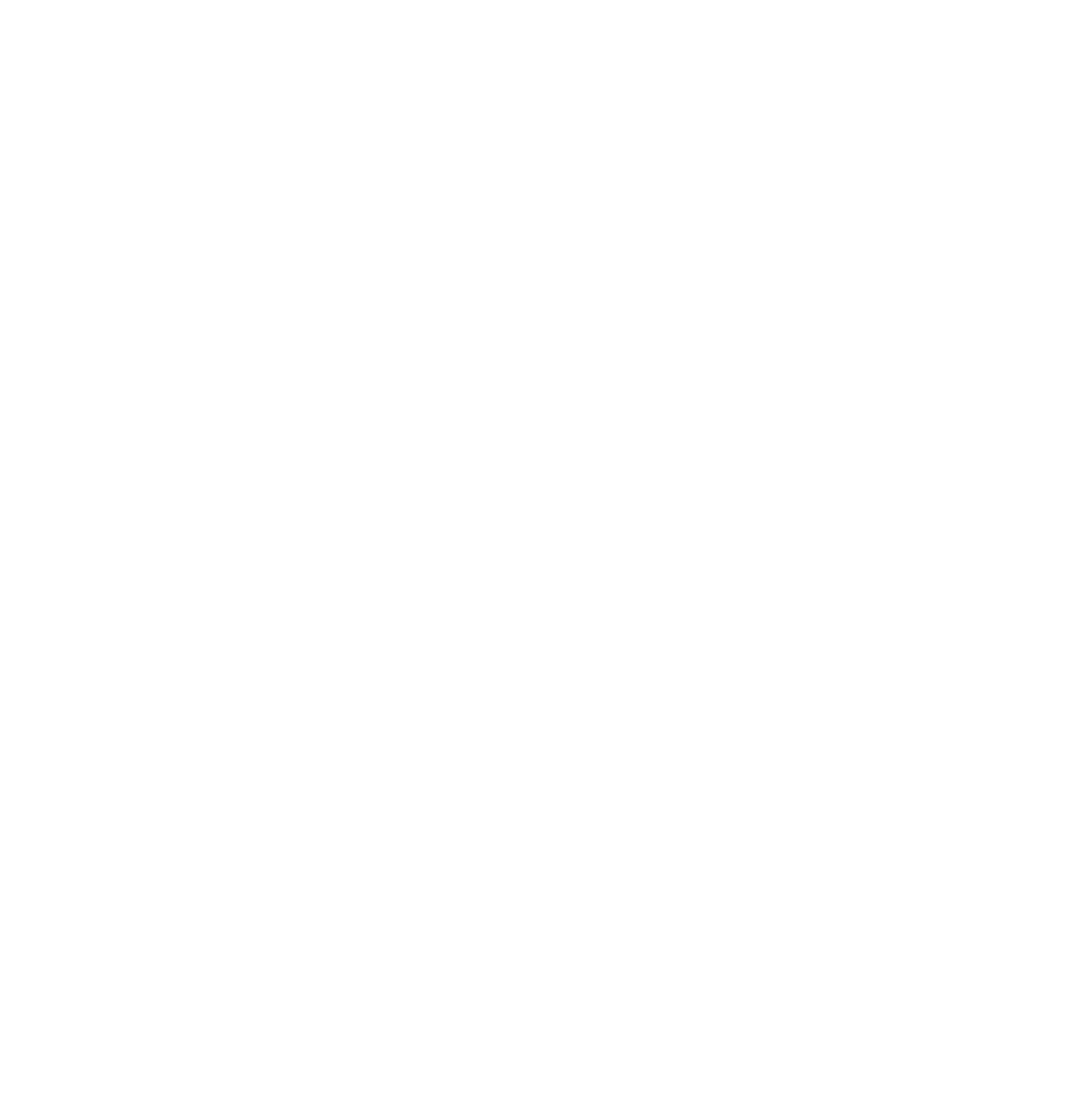
Константин Комаров
В некогда славный и, к сожалению, забытый ныне революционный праздник Седьмого ноября были подведены итоги премии «Поэзия». В стихотворной номинации победило верлибристическое эссе Екатерины Симоновой и не лучшее стихотворение хорошего поэта Дмитрия Веденяпина. Да здравствует средняя температура по больнице. Премированные стихи, позиционируемые как «лучшие стихотворения 2018 года», — сами по себе отнюдь не великие и даже не выдающиеся. Стихи такого уровня журналы различного толка публикуют десятками.
Поэт Владимир Гандельсман как-то хорошо сказал о верлибре как сложном жанре, требующем особой виртуозности исполнения:
Поэт Владимир Гандельсман как-то хорошо сказал о верлибре как сложном жанре, требующем особой виртуозности исполнения:
«Прекрасный верлибр требует не только редкого мастерства, но и человеческой зрелости. Не представляю, как можно с него начинать. Если вы считаете, что он высшая математика, то как обойтись без знания арифметики? Но ведь я своими ушами слышал от молодого человека, пишущего верлибром, что его воротит от рифмованных стихов. То есть? От Тютчева, Лермонтова, Блока, Пастернака? Это профнепригодность». Подобной профнепригодностью, как это ни прискорбно констатировать, отличилось более трети авторов премиального листа.
В переводческой номинации предсказуемо победил заслуженный переводчик Григорий Кружков. Очевидно, что номинация эта под него и затачивалась — остальные смотрелись фоном, статистами. К фигуре лауреата вопросов нет, однако почему в этой номинации «Поэзия» пошла строго по лекалам премии «Поэт» (премия за выслугу лет), от которой, помнится, при своем зачатии звонко открещивалась? Вопрос.
Ну а главный сюрприз ожидал нас в критической номинации, где победу одержал… Дмитрий Кузьмин. Тот самый, который в двух из трех номинаций присутствовал лично, а в третью делегировал пару десятков своих профнепригодных птенчиков (чего уж мелочиться — поучаствовал бы и сам)… Ну и до кучи — тот самый Дмитрий Кузьмин, который громогласно клянет нынешний режим, демонстративно бежит от него в Прибалтику, а потом ничтоже сумняшеся собирается участвовать в московском поэтическом биеннале, главным спонсором которого является… «Роснефть».
Литературная критика сегодня существует в парадоксальной ситуации: критиков полно, а критики как бы и нет. То есть как об институции, оказывающей серьезное влияние на литпроцесс, о ней сейчас говорить вряд ли приходится. Тем не менее при этом активно работают и публикуются более сотни критиков самых разных направлений, подходов, интонаций, темпераментов. Многообразие и разноплановость стратегий актуального критического письма наглядно продемонстрировала прошедшая в этом году в Екатеринбурге премия «Неистовый Виссарион».
В переводческой номинации предсказуемо победил заслуженный переводчик Григорий Кружков. Очевидно, что номинация эта под него и затачивалась — остальные смотрелись фоном, статистами. К фигуре лауреата вопросов нет, однако почему в этой номинации «Поэзия» пошла строго по лекалам премии «Поэт» (премия за выслугу лет), от которой, помнится, при своем зачатии звонко открещивалась? Вопрос.
Ну а главный сюрприз ожидал нас в критической номинации, где победу одержал… Дмитрий Кузьмин. Тот самый, который в двух из трех номинаций присутствовал лично, а в третью делегировал пару десятков своих профнепригодных птенчиков (чего уж мелочиться — поучаствовал бы и сам)… Ну и до кучи — тот самый Дмитрий Кузьмин, который громогласно клянет нынешний режим, демонстративно бежит от него в Прибалтику, а потом ничтоже сумняшеся собирается участвовать в московском поэтическом биеннале, главным спонсором которого является… «Роснефть».
Литературная критика сегодня существует в парадоксальной ситуации: критиков полно, а критики как бы и нет. То есть как об институции, оказывающей серьезное влияние на литпроцесс, о ней сейчас говорить вряд ли приходится. Тем не менее при этом активно работают и публикуются более сотни критиков самых разных направлений, подходов, интонаций, темпераментов. Многообразие и разноплановость стратегий актуального критического письма наглядно продемонстрировала прошедшая в этом году в Екатеринбурге премия «Неистовый Виссарион».
Но «Поэзия», похоже, не ставила себе задачу показать многосторонность современного критического письма.
Достойной критики в толстых журналах 2018 года — уйма. И если на поэтический лонг набралась сотня текстов, то на критический — тридцать-сорок уж точно можно было найти. Однако их оказалось всего десять. Бросим же на них краткий, но внимательный взгляд.
Статья Алексея Алехина «От чего рыбы разучились летать» выражает крайне пессимистичный взгляд на состояние современной поэзии. Мне приходилось коротко характеризовать эту статью. Тогда я заметил, что в ней больше личного раздражения и усталости Алехина, нежели понимания сложной мозаичной картины современной поэзии, и что не стоит подходить к поэзии с грубоватым статистическим инструментарием. Не отказываюсь от своих слов, но все познается в сравнении. А сравнение таково, что алехинская статья смотрится на фоне других финальных текстов едва ли не лидером. Она хотя бы написана бескомпромиссно, эмоционально, метафорично, с напором и внятной артикуляцией позиции, перспективной для дальнейшего дискутирования. И самое главное — это одна из двух не монографических, но собственно проблемных аналитических статей (редкий и, к сожалению, вымирающий ныне жанр) в премиальном листе. Вторая — «На обочине двух мейнстримов» Бориса Кутенкова — интересная, но смущающая слишком сильной степенью субъективизма при претензии на объективность, некоторым упрощением, схематичностью, спрямленностью ряда выкладок и тезисов критика.
Еще одним реальным претендентом мне виделся Владимир Козлов, системно проанализировавший творчество Михаила Айзенберга. Козлову удается довольно сбалансированно сочетать филологическую фундаментальность и критическую динамичность высказывания — редкий и ценный дар. То же (с большим, правда, уклоном в филологическую сторону) можно сказать и о цельной и внятной статье Артема Скворцова об Олеге Чухонцеве.
Текст Игоря Гулина о Василии Филиппове представляет собой добротную рецензию, содержащую краткий обзор биографии Филиппова и блиц-очерк его поэтики. Ценность этой рецензии по большей части информативная.
Кирилл Корчагин, Виталий Лехциер и Станислав Снытко выступили с привычными для их критического метода стерилизованными «филоложными» текстами. Создается впечатление, что понять, о чем они, могут только авторы, которым они посвящены (в данном случае это соответственно — Е. Суслова, «документальные» поэты и Ш. Абдуллаев). Таким закодированным языком протокола «разговаривают» машины, но не живые люди. О Корчагине-критике я уже говорил: «Филология в его текстах напрочь выдавливает непосредственную реакцию, сводя на ноль элемент эмоциональности, остроты высказывания. В этом безвоздушном пространстве живой мысли выжить трудно, органического взаимопроникновения с рассматриваемым текстом не происходит и не может произойти априори. Важный постулат о том, что критика — это литература о литературе, Корчагиным игнорируется». Снытко и Лехциер — в общем и целом — копируют корчагинское тоскливое камлание и так же наворачивают горы ржавого синтаксического лома, разгребать которые, если ты не верный адепт «актуальной поэзии», как-то не тянет. Полное совпадение объекта и адресата феномен сам по себе любопытный, но это единственное, что вообще может быть здесь любопытно.
О рецензии Юлии Подлубновой, содержащей прямую клевету в мой адрес и в целом построенной на тотальной подмене понятий, я уже в свое время все сказал и возвращаться к этой теме не вижу смысла.
И вот, наконец, триумфатор. Дмитрий Кузьмин со статьей «Кате Капович: твой последний листок одинокий». Привычное и вялое, как поминаемая в первых строках «анекдотическая дохлая кошка», обругивание силлаботоники сменяется внезапным наплывом нежности по отношению к поэзии Кати Капович, в стихах которой обнаруживается «любовь к бетону». Дальнейшее предсказуемо — истлевшие, как ветошь, заклинания о «распаде прежних конвенций говорения», «усталости слова о мире» и о том, что только «астрофические верлибры» Васякиной и Рымбу при поддержке Арсения Ровинского и Линор Горалик спасут русскую поэзию от ямбо-хорейного заболачивания. Сим победим, типа.
Вот лаконичная содержательная выжимка из статьи, «месседж»: Дмитрий Кузьмин (никогда ничего толком не рифмовавший) сразу после рождения взял и устал от рифмы. Тут вспоминаются строки екатеринбургского поэта Владимира Мишина: «Я устал ничего не иметь — / и устать-то, как след, не умея». Кузьмин устал, и поэтому от рифмы обязана устать и русская поэзия. Но русская поэзия от рифмы никак не устает (уж не потому ли, что рифма лежит в ее органическом основании, в самой ее «ментальности»?) и тем самым Кузьмину сопротивляется, что вызывает его глухое, бродящее, как сусло, что никак не может выбродить, раздражение. Но — внезапно! — поэтика Кати Капович отличается широким интертекстом и «хаотическим переплясом», так что не все потеряно, и пусть силлаботоника еще немного поживет. Можно выдохнуть, ребята.
Одна из самых ярких метафор кузьминской статьи — «выдаивание сгущенки прямо в рот». В общем, «выдоила» себе премия «Поэзия» достойного лауреата. Судить о состоянии современной критики по этой статье примерно то же, что по температуре в Танзании определять погоду в Тамбове. На сем, смахнув шальную слезу, умолкаю.
Статья Алексея Алехина «От чего рыбы разучились летать» выражает крайне пессимистичный взгляд на состояние современной поэзии. Мне приходилось коротко характеризовать эту статью. Тогда я заметил, что в ней больше личного раздражения и усталости Алехина, нежели понимания сложной мозаичной картины современной поэзии, и что не стоит подходить к поэзии с грубоватым статистическим инструментарием. Не отказываюсь от своих слов, но все познается в сравнении. А сравнение таково, что алехинская статья смотрится на фоне других финальных текстов едва ли не лидером. Она хотя бы написана бескомпромиссно, эмоционально, метафорично, с напором и внятной артикуляцией позиции, перспективной для дальнейшего дискутирования. И самое главное — это одна из двух не монографических, но собственно проблемных аналитических статей (редкий и, к сожалению, вымирающий ныне жанр) в премиальном листе. Вторая — «На обочине двух мейнстримов» Бориса Кутенкова — интересная, но смущающая слишком сильной степенью субъективизма при претензии на объективность, некоторым упрощением, схематичностью, спрямленностью ряда выкладок и тезисов критика.
Еще одним реальным претендентом мне виделся Владимир Козлов, системно проанализировавший творчество Михаила Айзенберга. Козлову удается довольно сбалансированно сочетать филологическую фундаментальность и критическую динамичность высказывания — редкий и ценный дар. То же (с большим, правда, уклоном в филологическую сторону) можно сказать и о цельной и внятной статье Артема Скворцова об Олеге Чухонцеве.
Текст Игоря Гулина о Василии Филиппове представляет собой добротную рецензию, содержащую краткий обзор биографии Филиппова и блиц-очерк его поэтики. Ценность этой рецензии по большей части информативная.
Кирилл Корчагин, Виталий Лехциер и Станислав Снытко выступили с привычными для их критического метода стерилизованными «филоложными» текстами. Создается впечатление, что понять, о чем они, могут только авторы, которым они посвящены (в данном случае это соответственно — Е. Суслова, «документальные» поэты и Ш. Абдуллаев). Таким закодированным языком протокола «разговаривают» машины, но не живые люди. О Корчагине-критике я уже говорил: «Филология в его текстах напрочь выдавливает непосредственную реакцию, сводя на ноль элемент эмоциональности, остроты высказывания. В этом безвоздушном пространстве живой мысли выжить трудно, органического взаимопроникновения с рассматриваемым текстом не происходит и не может произойти априори. Важный постулат о том, что критика — это литература о литературе, Корчагиным игнорируется». Снытко и Лехциер — в общем и целом — копируют корчагинское тоскливое камлание и так же наворачивают горы ржавого синтаксического лома, разгребать которые, если ты не верный адепт «актуальной поэзии», как-то не тянет. Полное совпадение объекта и адресата феномен сам по себе любопытный, но это единственное, что вообще может быть здесь любопытно.
О рецензии Юлии Подлубновой, содержащей прямую клевету в мой адрес и в целом построенной на тотальной подмене понятий, я уже в свое время все сказал и возвращаться к этой теме не вижу смысла.
И вот, наконец, триумфатор. Дмитрий Кузьмин со статьей «Кате Капович: твой последний листок одинокий». Привычное и вялое, как поминаемая в первых строках «анекдотическая дохлая кошка», обругивание силлаботоники сменяется внезапным наплывом нежности по отношению к поэзии Кати Капович, в стихах которой обнаруживается «любовь к бетону». Дальнейшее предсказуемо — истлевшие, как ветошь, заклинания о «распаде прежних конвенций говорения», «усталости слова о мире» и о том, что только «астрофические верлибры» Васякиной и Рымбу при поддержке Арсения Ровинского и Линор Горалик спасут русскую поэзию от ямбо-хорейного заболачивания. Сим победим, типа.
Вот лаконичная содержательная выжимка из статьи, «месседж»: Дмитрий Кузьмин (никогда ничего толком не рифмовавший) сразу после рождения взял и устал от рифмы. Тут вспоминаются строки екатеринбургского поэта Владимира Мишина: «Я устал ничего не иметь — / и устать-то, как след, не умея». Кузьмин устал, и поэтому от рифмы обязана устать и русская поэзия. Но русская поэзия от рифмы никак не устает (уж не потому ли, что рифма лежит в ее органическом основании, в самой ее «ментальности»?) и тем самым Кузьмину сопротивляется, что вызывает его глухое, бродящее, как сусло, что никак не может выбродить, раздражение. Но — внезапно! — поэтика Кати Капович отличается широким интертекстом и «хаотическим переплясом», так что не все потеряно, и пусть силлаботоника еще немного поживет. Можно выдохнуть, ребята.
Одна из самых ярких метафор кузьминской статьи — «выдаивание сгущенки прямо в рот». В общем, «выдоила» себе премия «Поэзия» достойного лауреата. Судить о состоянии современной критики по этой статье примерно то же, что по температуре в Танзании определять погоду в Тамбове. На сем, смахнув шальную слезу, умолкаю.
А. Алехин. Отчего рыбы разучились летать // Арион. 2018. № 3.
Б. Кутенков. На обочине двух мейнстримов. О двух имитационных векторах современной поэзии // Интерпоэзия. 2018. № 2.
В. Козлов. Хранитель места поэзии — Михаил Айзенберг // Prosōdia. 2018. № 9.
А. Скворцов. Бесконечность фрагмента (об Олеге Чухонцеве) // Новый мир. 2018. № 8.
И. Гулин. Бог из комнаты (о Василии Филиппове) // Коммерсант Weekend. 2018. № 7.
К. Корчагин. Движение к самому внутреннему из тел (о Евгении Сусловой) // Новый мир. 2018. № 3.
В. Лехциер. Экспонирование и исследование, или Что происходит с субъектом в новейшей документальной поэзии: Марк Новак и другие // Новое литературное обозрение. 2018. № 2.
С. Снытко. Стиль пустыни (о Шамшаде Абдуллаеве) // Новое литературное обозрение. 2018. № 5.
Ю. Подлубнова. Условная река абсолютной любви (к выходу 4-го тома антологии современной уральской поэзии) // Знамя. 2018. № 10.
Воздух. 2018. № 36.
К. Комаров. Только затылки // Вопросы литературы. 2017. № 2. С. 122-135.
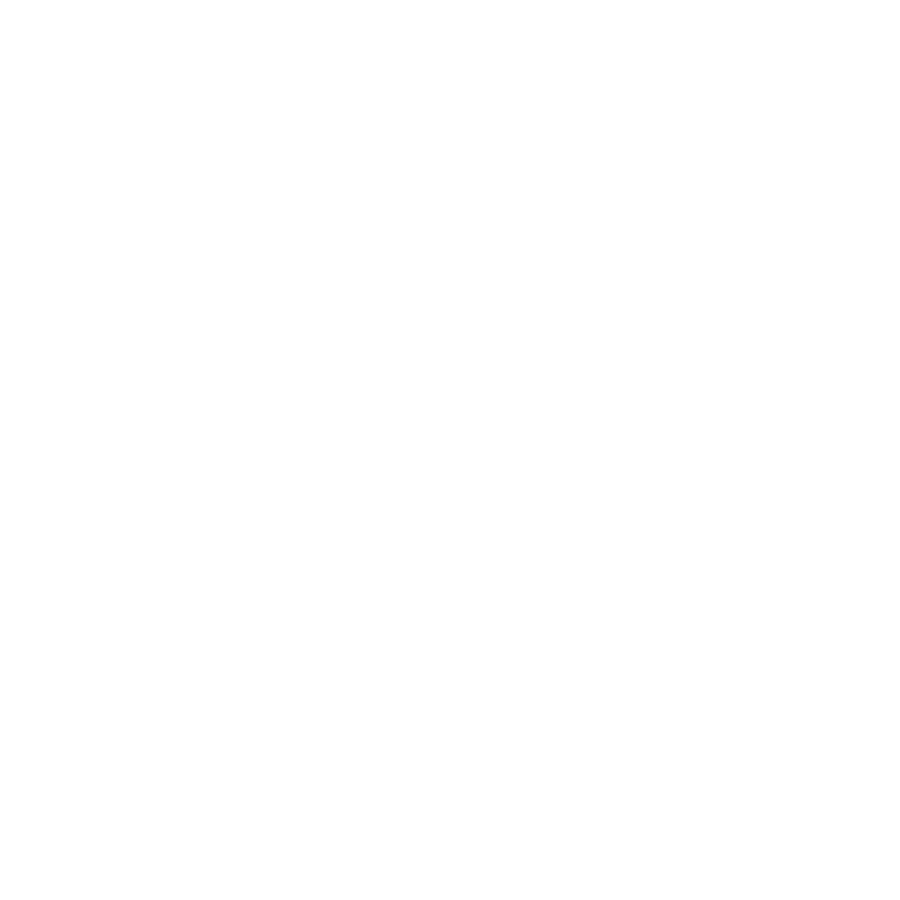
Ольга Балла
Реплика моя в нашем разговоре будет на сей раз нетипичной, но, не имев возможности сказать об этом в порядке примечания к своей предыдущей реплике, чувствую нужным сказать теперь — и отдельно.
Мне видятся совершенно недопустимыми — неуместными в пределах профессионального сообщества и в рамках профессионального разговора — тон и стиль, в которых в «Легкой кавалерии» за июнь этого года коллега Константин Комаров высказывался о поэте Василии Бородине. Дело даже не в том, что (по моему скромному разумению) Бородин — один из самых значительных поэтов своего поколения (о чем надо будет однажды найти повод написать, и я его найду); разумеется, это мнение всякий волен не разделять и даже иметь вовсе противоположное. Да, Бородин мне дорог и важен, поэтому я говорю на эту тему именно в связи с ним и даже спустя столько времени.
Мне видятся совершенно недопустимыми — неуместными в пределах профессионального сообщества и в рамках профессионального разговора — тон и стиль, в которых в «Легкой кавалерии» за июнь этого года коллега Константин Комаров высказывался о поэте Василии Бородине. Дело даже не в том, что (по моему скромному разумению) Бородин — один из самых значительных поэтов своего поколения (о чем надо будет однажды найти повод написать, и я его найду); разумеется, это мнение всякий волен не разделять и даже иметь вовсе противоположное. Да, Бородин мне дорог и важен, поэтому я говорю на эту тему именно в связи с ним и даже спустя столько времени.
Но проблема выходит далеко за рамки отношения именно к его поэзии. Бородин в данном случае, кажется, просто подвернулся критику под руку — как показательный пример, по словам Комарова, одного из «кисломолочных стихотворцев, которых можно обозначить как "концептуальных словоблудов"».
«Формат нашей рубрики, — как справедливо замечает тот же автор, — предусматривает емкость и лаконизм». Но чего он не подразумевает точно, это, во-первых, неаргументированных и нечетких высказываний и, во-вторых, неуважения к предмету обсуждения. (Например, такое вводимое автором интересное литературоведческое понятие как «кисломолочность» стихотворцев, будучи совсем неочевидным нуждается хотя бы в первоначальном прояснении, как и в первоначальном, для непосвященных, обосновании того, что «кисломолочность» текста означает его более низкое качество по сравнению, допустим, со «сладкомолочностью».) Но дело даже не в этом. Дело в том, что выражения вроде «убогий эрзац фасеточного зрения» (следовательно, неубогий эрзац тоже мыслим?), «непроходимая пошлость», «псевдопоэтический бред», «языковое убожество», «низкопробные графоманские понты» (а высокопробные понты бывают? а неграфоманские?) представляются мне недопустимыми, поскольку выводят диалог за пределы и осмысленной полемики, и конструктивного разговора вообще. Не говоря уже о том, что столь темпераментно выражающийся автор не предпринимает ни единой попытки обосновать, почему именно и в свете каких критериев поэтическая работа Василия Бородина должна быть сочтена по меньшей мере некачественной, если и вовсе не располагающейся за границами поэзии как таковой («бред» у анализируемого поэта в глазах критика, как мы заметили, даже не поэтический, а «псевдопоэтический»). Таким образом, предлагаемый Комаровым анализ текста (допустим, что это, по замыслу автора, все-таки анализ) оказывается нисколько не более обоснованным, чем вызывающие протест критика «восхищение и умиление» Бородиным со стороны его коллег.
По существу, коллега Комаров сказал одно-единственное: стихи Василия Бородина очень ему не нравятся и вызывают сильное раздражение. Но раз уж мы все-таки ведем разговор на страницах профильного издания, имело бы смысл показать, почему именно то, что говорит критик, представляет собой нечто принципиально более общезначимое, чем его личная эмоциональная реакция.
То, что эстетические позиции критика и обсуждаемого поэта различны — само по себе нормально и понятно. Но, к сожалению, язык, который критик избрал для обсуждения стихов Бородина, — это язык травли, который уже на лексическом уровне превращает обсуждение чего бы то ни было в перечеркивание предмета обсуждения (что плохо само по себе) и унижение стоящего за текстами человека (что гораздо хуже). Сама взятая интонация, не говоря о диктуемой ею лексике, такова, что исключает диалог и понимание. Это, кажется, не идет на пользу ни участникам разговора, ни обсуждаемому поэту, ни процессам, идущим сегодня в русской поэзии, ни культуре в целом.
«Формат нашей рубрики, — как справедливо замечает тот же автор, — предусматривает емкость и лаконизм». Но чего он не подразумевает точно, это, во-первых, неаргументированных и нечетких высказываний и, во-вторых, неуважения к предмету обсуждения. (Например, такое вводимое автором интересное литературоведческое понятие как «кисломолочность» стихотворцев, будучи совсем неочевидным нуждается хотя бы в первоначальном прояснении, как и в первоначальном, для непосвященных, обосновании того, что «кисломолочность» текста означает его более низкое качество по сравнению, допустим, со «сладкомолочностью».) Но дело даже не в этом. Дело в том, что выражения вроде «убогий эрзац фасеточного зрения» (следовательно, неубогий эрзац тоже мыслим?), «непроходимая пошлость», «псевдопоэтический бред», «языковое убожество», «низкопробные графоманские понты» (а высокопробные понты бывают? а неграфоманские?) представляются мне недопустимыми, поскольку выводят диалог за пределы и осмысленной полемики, и конструктивного разговора вообще. Не говоря уже о том, что столь темпераментно выражающийся автор не предпринимает ни единой попытки обосновать, почему именно и в свете каких критериев поэтическая работа Василия Бородина должна быть сочтена по меньшей мере некачественной, если и вовсе не располагающейся за границами поэзии как таковой («бред» у анализируемого поэта в глазах критика, как мы заметили, даже не поэтический, а «псевдопоэтический»). Таким образом, предлагаемый Комаровым анализ текста (допустим, что это, по замыслу автора, все-таки анализ) оказывается нисколько не более обоснованным, чем вызывающие протест критика «восхищение и умиление» Бородиным со стороны его коллег.
По существу, коллега Комаров сказал одно-единственное: стихи Василия Бородина очень ему не нравятся и вызывают сильное раздражение. Но раз уж мы все-таки ведем разговор на страницах профильного издания, имело бы смысл показать, почему именно то, что говорит критик, представляет собой нечто принципиально более общезначимое, чем его личная эмоциональная реакция.
То, что эстетические позиции критика и обсуждаемого поэта различны — само по себе нормально и понятно. Но, к сожалению, язык, который критик избрал для обсуждения стихов Бородина, — это язык травли, который уже на лексическом уровне превращает обсуждение чего бы то ни было в перечеркивание предмета обсуждения (что плохо само по себе) и унижение стоящего за текстами человека (что гораздо хуже). Сама взятая интонация, не говоря о диктуемой ею лексике, такова, что исключает диалог и понимание. Это, кажется, не идет на пользу ни участникам разговора, ни обсуждаемому поэту, ни процессам, идущим сегодня в русской поэзии, ни культуре в целом.
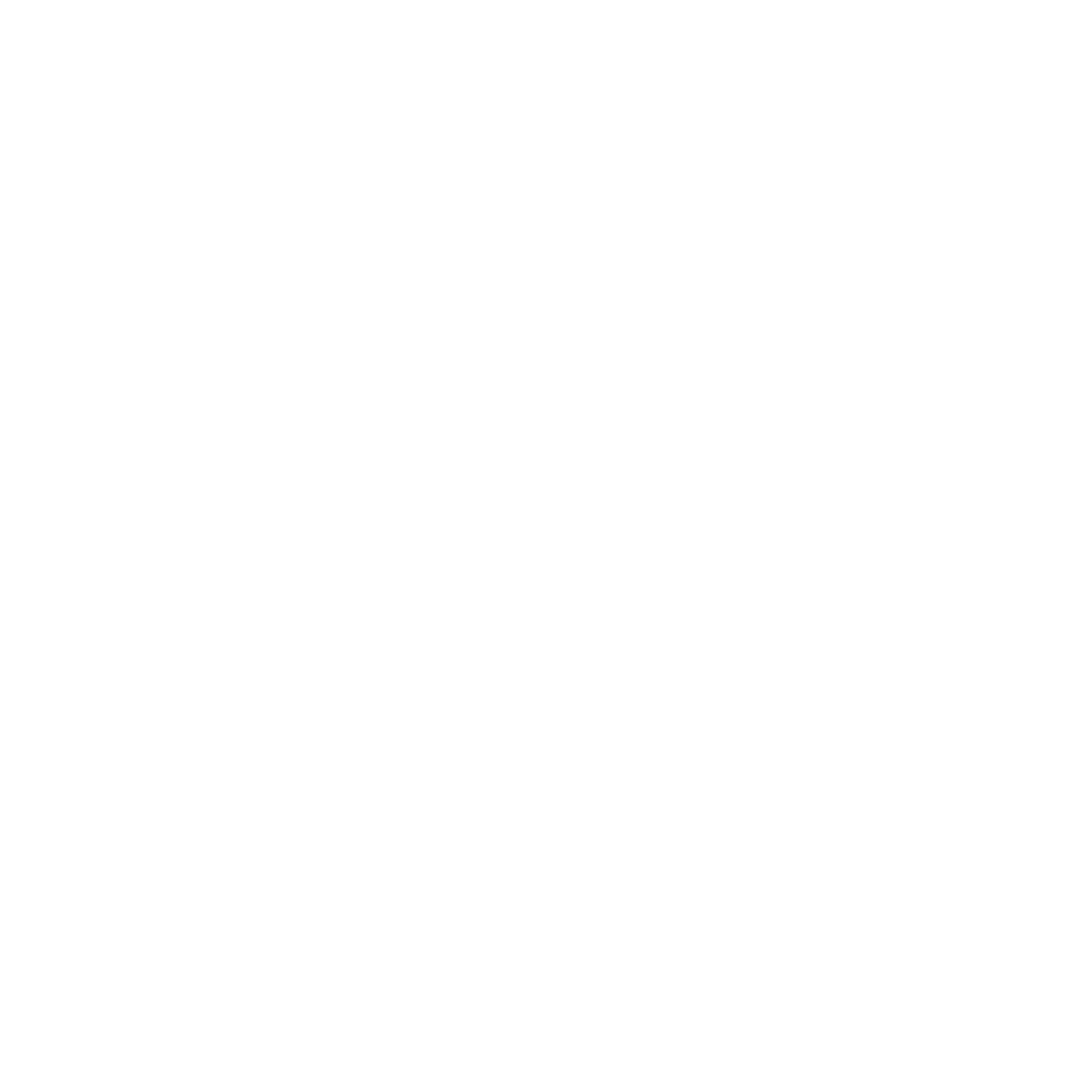
Санджар Янышев
Искусство поэзии требует слов, — поэтому в стихах чрезвычайно важен их выбор. Почему поэт какое-то слово не вспомнит ни при каких обстоятельствах, а какое-то до дыр заюзает, не особо задумываясь над его смыслом? Вот, кстати, автор использованного в первой моей реплике стихотворения в повседневной речи любил низать это «и т. д.»: «И так далее, и так далее, и так далее…» Зачем нам тут, в разговоре о стихах, нужна эта «повседневная речь»? Потому что современная русская поэзия — это бесконечный процесс оповседневнивания высокого, точнее, производства поэтических смыслов из материи, традиционно изготовляемой для прозы, которая, как мы помним, требует «болтовни». И вот поэт «болтает», вроде как забалтывая реальность, а на деле, случается, выбалтывает ее всю — со всем тем, что сию минуту видит, чувствует, вспоминает, не брезгуя выражениями, подчеркивающими ее, реальности, предельную неиллюзорность. Примеров такого безудержного говорения полно; за них поэтов любят (читатели, которые сами поэты), за них же и линчуют.
Меня сейчас интересуют средства. Остановимся на одном из них.
Слыхали выражение: «вот это вот все»?
«Теперь все предпочитают нежнятинку: розовые волосы, кружевные воротнички, рюкзаки-медвежата, вот это вот все» (Дария Кошка, курсив мой). «Петров замер, пробуя сформулировать какую-нибудь интересную шутку, связанную с тем, что аптекарша с лицом строгого, но справедливого советского педагога начальной школы приняла его за наркомана. Одновременно с этим Петров понял, что его вообще очень часто принимают за наркомана; видимо, какой-то нездоровый образ жизни, который Петров вел, ковыряясь под машинами, как-то отражался на его внешнем виде. Шутка должна была обыгрывать именно вот это вот все» (Алексей Сальников, курсив снова мой). «…А потом решил путешествовать, потому что надо путешествовать, пока молодой, потом будет работа, взрослая жизнь, вот это вот все, ну ты понимаешь» (Вадим Левенталь, курсив не мой).
Возможно, под видом «вот этого всего» к нам просочилось английское and all that jazz (или, к примеру, all this stuff). Но это не точно. Наше выражение кажется если не более энергичным, то более экспрессивным.
«Вот это вот все» — выражение сравнительно недавнее: лет десять ему, быть может, пятнадцать. Однажды впитав нечто новое, язык дает этому новому «обратную силу»: носителям начинает казаться, что ничего нового тут нет, что «так говорили еще во времена моего детства». Но в данном случае сомневаться не приходится: модус данного выражения пока в стадии формирования. Точнее, доформировывания.
В «Журнальном зале» всего шесть или семь ссылок, содержащих означенное выражение; самая ранняя за 2005 год. Анализ этих примеров привел меня к выводу: «вот это вот все» писатели чаще всего используют в качестве яркой краски с оттенком пренебрежения в адрес окрашиваемых явлений/предметов. Полагаю, впрочем, что в сходном значении им пользуются и люди более мирных профессий. Не нам, скромным словесникам, задавать здесь тон — мы можем (вернее, обязаны) чутко улавливать перемены, служить сверхточными эхолотами; язык, как известно, язычит себя «сам», будучи безусловным инстинктом нашей природы.
Еще пара примеров:
«…А потом проблемы начинают накапливаться, дальше — претензии, замыкание в себе, "я не могу тебя видеть", вот это вот все» (Линор Горалик).
«Это ж, б****, я не знаю, кем вообще надо быть… А вот и я тебе про то! Кто-то умный у них там, на самом верху, посчитал: хватит нам во всех шахтах регрессы платить — за артрит, за суставы, за вот это вот все» (Сергей Самсонов).
Значение данного выражения здесь такое же, как и в приведенных выше примерах: сперва ряд не (лице)приятных для говорящего субъекта явлений, потом в качестве итога — выплеск: «вот это вот все» («ну, вы поняли»). Кажется, смысл — пресловутый модус — окончательно утрясен… Но не тут-то было.
Потому что в стихах современных поэтов смысл нашего выражения все еще зыбок. Как никто другой «вот это вот все» любит Дмитрий Данилов.
Вот, скажем, финал одного из последних на сегодняшний день текстов «Человеческое проклятие»:
Слыхали выражение: «вот это вот все»?
«Теперь все предпочитают нежнятинку: розовые волосы, кружевные воротнички, рюкзаки-медвежата, вот это вот все» (Дария Кошка, курсив мой). «Петров замер, пробуя сформулировать какую-нибудь интересную шутку, связанную с тем, что аптекарша с лицом строгого, но справедливого советского педагога начальной школы приняла его за наркомана. Одновременно с этим Петров понял, что его вообще очень часто принимают за наркомана; видимо, какой-то нездоровый образ жизни, который Петров вел, ковыряясь под машинами, как-то отражался на его внешнем виде. Шутка должна была обыгрывать именно вот это вот все» (Алексей Сальников, курсив снова мой). «…А потом решил путешествовать, потому что надо путешествовать, пока молодой, потом будет работа, взрослая жизнь, вот это вот все, ну ты понимаешь» (Вадим Левенталь, курсив не мой).
Возможно, под видом «вот этого всего» к нам просочилось английское and all that jazz (или, к примеру, all this stuff). Но это не точно. Наше выражение кажется если не более энергичным, то более экспрессивным.
«Вот это вот все» — выражение сравнительно недавнее: лет десять ему, быть может, пятнадцать. Однажды впитав нечто новое, язык дает этому новому «обратную силу»: носителям начинает казаться, что ничего нового тут нет, что «так говорили еще во времена моего детства». Но в данном случае сомневаться не приходится: модус данного выражения пока в стадии формирования. Точнее, доформировывания.
В «Журнальном зале» всего шесть или семь ссылок, содержащих означенное выражение; самая ранняя за 2005 год. Анализ этих примеров привел меня к выводу: «вот это вот все» писатели чаще всего используют в качестве яркой краски с оттенком пренебрежения в адрес окрашиваемых явлений/предметов. Полагаю, впрочем, что в сходном значении им пользуются и люди более мирных профессий. Не нам, скромным словесникам, задавать здесь тон — мы можем (вернее, обязаны) чутко улавливать перемены, служить сверхточными эхолотами; язык, как известно, язычит себя «сам», будучи безусловным инстинктом нашей природы.
Еще пара примеров:
«…А потом проблемы начинают накапливаться, дальше — претензии, замыкание в себе, "я не могу тебя видеть", вот это вот все» (Линор Горалик).
«Это ж, б****, я не знаю, кем вообще надо быть… А вот и я тебе про то! Кто-то умный у них там, на самом верху, посчитал: хватит нам во всех шахтах регрессы платить — за артрит, за суставы, за вот это вот все» (Сергей Самсонов).
Значение данного выражения здесь такое же, как и в приведенных выше примерах: сперва ряд не (лице)приятных для говорящего субъекта явлений, потом в качестве итога — выплеск: «вот это вот все» («ну, вы поняли»). Кажется, смысл — пресловутый модус — окончательно утрясен… Но не тут-то было.
Потому что в стихах современных поэтов смысл нашего выражения все еще зыбок. Как никто другой «вот это вот все» любит Дмитрий Данилов.
Вот, скажем, финал одного из последних на сегодняшний день текстов «Человеческое проклятие»:
Непонятно
Как мог я
Человек, образ и подобие
Божие
Устроить себе
Такой кошмар
Как я мог
Сделать себе
Вот это вот все
Как я мог.
Как мог я
Человек, образ и подобие
Божие
Устроить себе
Такой кошмар
Как я мог
Сделать себе
Вот это вот все
Как я мог.
Тут наше выражение дано в полном соответствии с устоявшимся значением. Идем дальше.
Можно зайти, например, в «Пятерочку»
И купить, например, бутылку виски
Или, как некоторые говорят
«Чего-нибудь вкусненького»
Какое дикое выражение
Чего-нибудь вкусненького
Прямо блевать хочется
Но — да, чего-нибудь вкусненького
Купить вот это вот все
(«Окаянные дни»)
И купить, например, бутылку виски
Или, как некоторые говорят
«Чего-нибудь вкусненького»
Какое дикое выражение
Чего-нибудь вкусненького
Прямо блевать хочется
Но — да, чего-нибудь вкусненького
Купить вот это вот все
(«Окаянные дни»)
В этом тексте среди перечисляемых предметов, о которых грезит лирический герой, есть «дикое выражение» и связанный с ним окрашенный в известные цвета глагол «блевать»; однако отношение к потенциальным покупкам амбивалентно. Потому что и виски, и «что-нибудь вкусненькое» — это все-таки то, что герою потребно и лакомо — несмотря на.
В следующем же примере «вот это вот все» охватывает и вовсе нейтральные материи:
В следующем же примере «вот это вот все» охватывает и вовсе нейтральные материи:
Я услышал его песню
Хлеб да вода
И она вот как раз такая
Неуловимая
Непонятно, чем воздействующая
Про Реальность
И про Ее невозможность
И про какие-то
Простые вещи
И вообще, про вот это вот все
(«Черный Лукич»)
Хлеб да вода
И она вот как раз такая
Неуловимая
Непонятно, чем воздействующая
Про Реальность
И про Ее невозможность
И про какие-то
Простые вещи
И вообще, про вот это вот все
(«Черный Лукич»)
Простые вещи (хочется по-тарковски продолжить «таз, кувшин…»): «хлеб», «вода», «Реальность» (читай — Бог, потому и с заглавной буквы), и даже ее (Его) «невозможность» — отношение автора ко «всему этому» никак не назовешь пренебрежительным. Примеров подобного отношения, скорее окрашенного теплотой, нежели отрицанием, у Данилова хватает (найдите, навскидку, стихотворение «Мастер игры на балалайке»).
А вот пример не из Данилова: недавнее стихотворение тонкого и чуткого поэта Андрея Гришаева:
А вот пример не из Данилова: недавнее стихотворение тонкого и чуткого поэта Андрея Гришаева:
Ах, сладкий вкус ухи,
Литература,
Дыханье выпившего отца,
Искры огня,
Расслабленные нервы,
Вот это все.
(«Лес был непробиваемо серьезен…»)
Литература,
Дыханье выпившего отца,
Искры огня,
Расслабленные нервы,
Вот это все.
(«Лес был непробиваемо серьезен…»)
Наше выражение тут слегка редуцировано (лишено второго «вот»), но это оно, то самое, правда, снова, как в случае Данилова, итожащее нечто теплое, родное, близкое автору до боли.
Выводы (пока) делать не буду. Язык продолжается.
Выводы (пока) делать не буду. Язык продолжается.
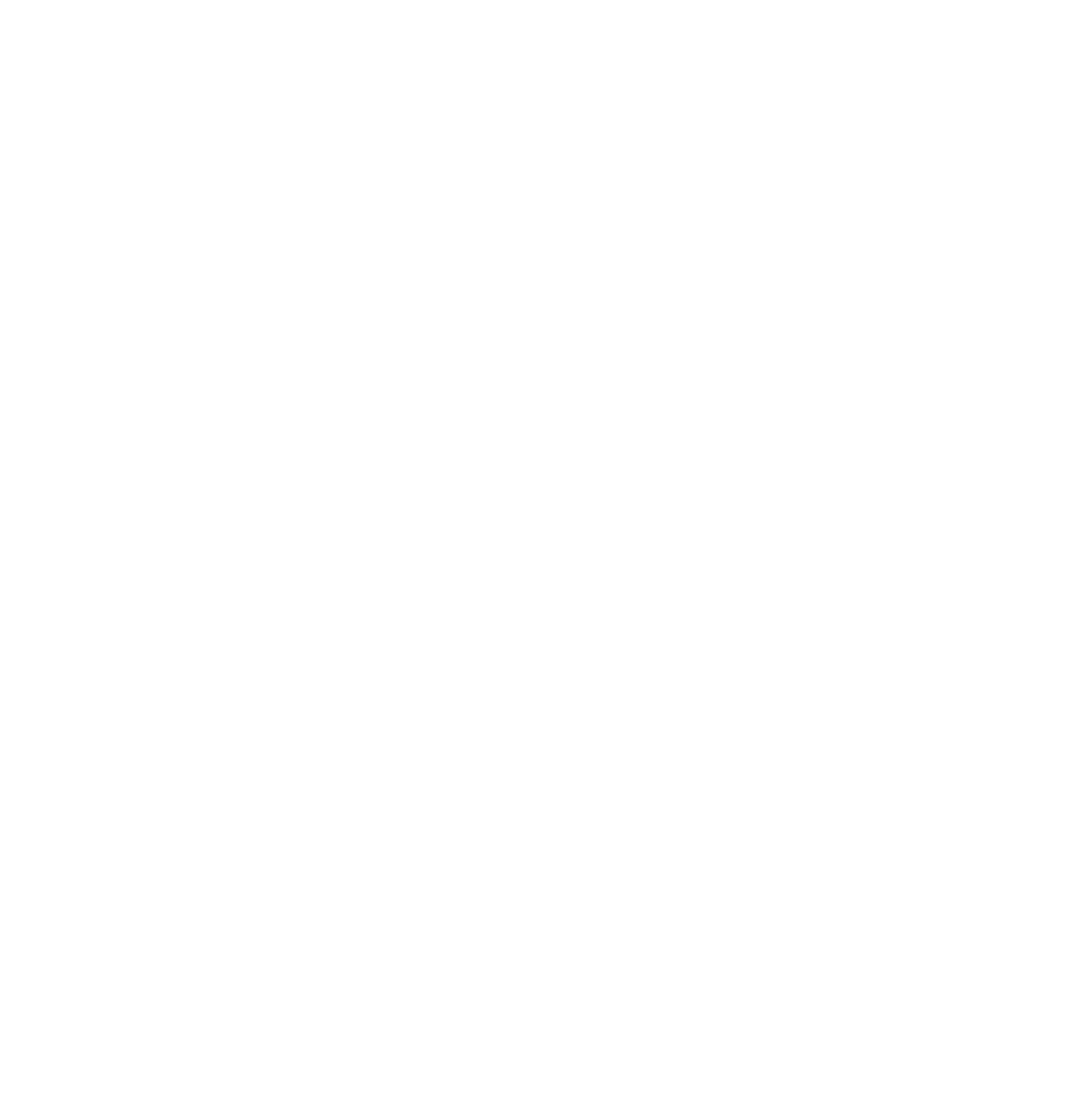
Сергей Баталов
Некоторые комментаторы в социальных сетях удивились моим словам в одном из последних выпусков «Легкой кавалерии» об эпическом характере многих стихотворений премиального листа премии «Поэзия». Попробую разъяснить, что я имел в виду. Хороший повод для этого дает новый сборник Татьяны Вольтской «Крылатый санитар», вышедший в издательстве «Воймега» в 2019 году, одно из стихотворений которого представлено и в премиальном листе.
Начинается, впрочем, все с лирики. С осмысления лирической героиней окружающего пространства. Оно безлюдно. Это мир снега, воды, льда, мир, где нет места человеку. Впрочем, за этим пространством словно бы просвечивает другое — Город, утраченный рай, «небесный» Санкт-Петербург. И счастье, которое было возможно в тех интерьерах, где «мост чугунный, булыжник старорежимный».
Начинается, впрочем, все с лирики. С осмысления лирической героиней окружающего пространства. Оно безлюдно. Это мир снега, воды, льда, мир, где нет места человеку. Впрочем, за этим пространством словно бы просвечивает другое — Город, утраченный рай, «небесный» Санкт-Петербург. И счастье, которое было возможно в тех интерьерах, где «мост чугунный, булыжник старорежимный».
Тот город ушел. Растворился в потоках дождя. То, что осталось, — лишь сон «любовников после войны». Камни, чужие для лирической героини. Но на месте исчезнувшего города поэт словно бы начинает видеть его ушедших обитателей.
И вот тут-то у Вольтской лирика начинает приобретать черты эпоса. Потому что говорить она начинает не только за себя, но и за ушедших. И осмысляет не только свою личную судьбу, но и пространство большой истории: войну, репрессии, раскулачивание. Очень интересно наблюдать за ходом этого осмысления.
Первой реакцией поэта при столкновении с трагедиями прошлого оказывается естественное чувство жалости.
И вот тут-то у Вольтской лирика начинает приобретать черты эпоса. Потому что говорить она начинает не только за себя, но и за ушедших. И осмысляет не только свою личную судьбу, но и пространство большой истории: войну, репрессии, раскулачивание. Очень интересно наблюдать за ходом этого осмысления.
Первой реакцией поэта при столкновении с трагедиями прошлого оказывается естественное чувство жалости.
Не до жимолости — хоть бы жалости -
Всем, кто в горести и усталости,
Всем, кто в сырости и во тьме,
Всем, кто в сирости и в тюрьме.
(«Не до жимолости — хоть бы жалости...»)
Всем, кто в горести и усталости,
Всем, кто в сырости и во тьме,
Всем, кто в сирости и в тюрьме.
(«Не до жимолости — хоть бы жалости...»)
Остановимся на этом стихотворении. Очевидны как отсылка к Мандельштаму, так и спор с классиком. Жимолость, от которой отказывается Вольтская, в стихах Мандельштама была символом Франции, а если взять шире — то и всей европейской культуры. По сути, она — одно из зримых воплощений той «тоски по мировой культуре», которой пронизана поэзия Мандельштама. И, таким образом, отказ от жимолости оборачивается отказом от европейской культуры — во имя жалости к ушедшим.
Это противопоставление: яркий, упорядоченный, культурный мир Европы и черно-белый, природный, практически потусторонний мир России — пронизывает весь сборник. И поэт явно относит себя ко второму миру. Это странно.
Потому что, на самом деле, для Татьяны Вольтской важна цивилизация. Важны Питер и Европа. Важен Мандельштам, который для нее скорее единомышленник, чем оппонент. И периодически под знаменем культуры Вольтская бросает вызов пустому пространству.
Это противопоставление: яркий, упорядоченный, культурный мир Европы и черно-белый, природный, практически потусторонний мир России — пронизывает весь сборник. И поэт явно относит себя ко второму миру. Это странно.
Потому что, на самом деле, для Татьяны Вольтской важна цивилизация. Важны Питер и Европа. Важен Мандельштам, который для нее скорее единомышленник, чем оппонент. И периодически под знаменем культуры Вольтская бросает вызов пустому пространству.
Упрячем перья мокрой курицы:
Пусть алый рот плывет над улицей,
Как флаг неведомой страны,
Где встречные почти не хмурятся,
И где Феллини и Кустурицей
Все зубы заговорены.
(«Я беспокоюсь — как я выгляжу»)
Пусть алый рот плывет над улицей,
Как флаг неведомой страны,
Где встречные почти не хмурятся,
И где Феллини и Кустурицей
Все зубы заговорены.
(«Я беспокоюсь — как я выгляжу»)
Но такие стихи — исключения, в основном сосредоточенные в разделе сборника с характерным названием «Отпуск». В основном же мир лирической героини — это зима, холод, жертвы былых трагедий.
Почему так? Ответ прост, и он вновь возвращает нас к лирике. Именно в таком мире, среди воды и пустого пространства, оказывается единственно возможным большое чувство. Видимо, слишком незаконное для мира цивилизации. В сборнике постоянно возникает загадочный «Он», к которому обращена большая часть стихотворений. То ли возлюбленный лирической героини, то ли сам Всевышний.
Почему так? Ответ прост, и он вновь возвращает нас к лирике. Именно в таком мире, среди воды и пустого пространства, оказывается единственно возможным большое чувство. Видимо, слишком незаконное для мира цивилизации. В сборнике постоянно возникает загадочный «Он», к которому обращена большая часть стихотворений. То ли возлюбленный лирической героини, то ли сам Всевышний.
Мы будем точка с запятой на зимней мостовой,
А снег летит, как Дух святой, над нашей головой,
Не спрашивая имени, у века на краю.
Люби меня, прости меня за песенку мою.
(«Мы будем точка с запятой на зимней мостовой…»)
А снег летит, как Дух святой, над нашей головой,
Не спрашивая имени, у века на краю.
Люби меня, прости меня за песенку мою.
(«Мы будем точка с запятой на зимней мостовой…»)
И эта созависимость любви и смерти представляется необычайно важной.
Дело в том, что трагическая история нашей страны до сих пор вызывает в нас противоречивые, но всегда сильные эмоции. Когда есть и жалость, и страх, и любовь, которая только острее на краю смерти. А еще мы никак не можем отрешиться от образа пустого поля, где когда-то цвела великая цивилизация. В результате мы все оказываемся в зависимости от этих эмоций, от нашего великого и трагического прошлого, и никак не можем расстаться с ним.
Дело в том, что трагическая история нашей страны до сих пор вызывает в нас противоречивые, но всегда сильные эмоции. Когда есть и жалость, и страх, и любовь, которая только острее на краю смерти. А еще мы никак не можем отрешиться от образа пустого поля, где когда-то цвела великая цивилизация. В результате мы все оказываемся в зависимости от этих эмоций, от нашего великого и трагического прошлого, и никак не можем расстаться с ним.
Мы живем на проспектах имени палачей,
В нашем супе бумажный привкус от их речей.
Мы идем к себе, да никак не найдем ключей.
Как в блокаду, стулья и книги внутри печей,
Мы в чугунных лбах сжигаем двадцатый век,
Он горит так долго, что хватит его на всех.
(«Мы живем на проспектах имени палачей…»)
В нашем супе бумажный привкус от их речей.
Мы идем к себе, да никак не найдем ключей.
Как в блокаду, стулья и книги внутри печей,
Мы в чугунных лбах сжигаем двадцатый век,
Он горит так долго, что хватит его на всех.
(«Мы живем на проспектах имени палачей…»)
В стихотворении Татьяны Вольтской про бессмертный полк из премиального листа премии «Поэзия», вышедший на площадь «бессмертный полк», то есть мир мертвых, не оставляет пространства для протестующих — живых людей. Шлемы омоновцев сравниваются с речной галькой, и эта метафора, как и всегда у Вольтской, введена не ради красоты или оригинальности, но для того, чтобы привязать место действия к пустому пространству природы.
Но, осмысляя как эпик данную зависимость, душою, как лирик, Вольтская остается все с тем же «потусторонним», природным миром, словно бы становясь героиней собственного эпоса. В последнее время модным стало словосочетание «литература травмы». Это, конечно, тоже «литература травмы», как личной, так и общественной. Но проговаривание травмы, как известно, это первый шаг к ее исцелению. И это — лишь одна из причин, по которой «Крылатый санитар» должен найти своих читателей. Ибо в случае травмы именно санитары приходят на помощь. Остается лишь надеяться, что они успеют помочь.
Но, осмысляя как эпик данную зависимость, душою, как лирик, Вольтская остается все с тем же «потусторонним», природным миром, словно бы становясь героиней собственного эпоса. В последнее время модным стало словосочетание «литература травмы». Это, конечно, тоже «литература травмы», как личной, так и общественной. Но проговаривание травмы, как известно, это первый шаг к ее исцелению. И это — лишь одна из причин, по которой «Крылатый санитар» должен найти своих читателей. Ибо в случае травмы именно санитары приходят на помощь. Остается лишь надеяться, что они успеют помочь.
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике