Июнь 2019
Легкая кавалерия. Выпуск №6
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
Говорим дальше — и снова о разных интересных штуках: о спорах «традиционалистов» с «новейшими» и отсутствии поэтической личности в актуальной поэзии; о сравнении премии «Дебют» с «Лицеем» и поколениях «молодых писателей»; о литературе травмы и литературе обиды; о необходимости эстетической критики, э-критики и э-редактуры; о России в литературном номере «Esquire»; о романе О. Бахаревича «Собаки Европы»; о старом советском и новом американском кино; а также о многом другом…
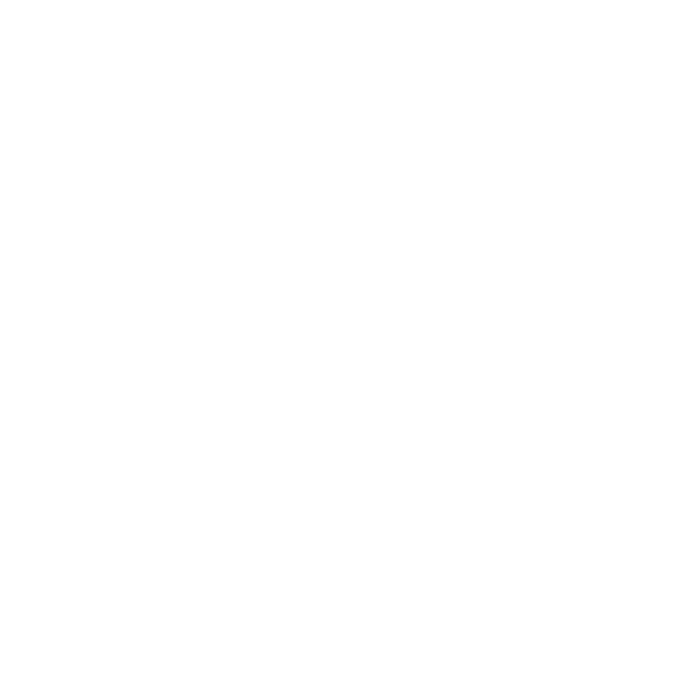
Артем Скворцов
Знатоки современной литературной ситуации констатируют: русская поэзия разделилась на два культурных лагеря. Они едва ли не «биологически несовместимы». Признанных четких определений этих полюсов не существует, но все интересующиеся интуитивно понимают, о чем идет речь. Очень условно назовем авторов двух групп «традиционалистами» и «новейшими».
Читатель, выбирающий прозу, сходу вряд ли разберется в теоретических основаниях поэтических конфликтов, хотя описать их возможно, но это потребует очень много букв. Проще и лучше показать пресловутую несовместимость на наглядном примере (приношу извинения стихотворцам, чьи сочинения позаимствованы для мысленного экспериментального упражнения).
Читатель, выбирающий прозу, сходу вряд ли разберется в теоретических основаниях поэтических конфликтов, хотя описать их возможно, но это потребует очень много букв. Проще и лучше показать пресловутую несовместимость на наглядном примере (приношу извинения стихотворцам, чьи сочинения позаимствованы для мысленного экспериментального упражнения).
Допустим, заходит «новейший» в хороший книжный магазин, где почему-то еще имеется богатый выбор книг с текстами в столбик, открывает наугад свежее издание «традиционалиста» и видит следующее:
Г. Русаков. Сроки. М.: Воймега. 2018. С. 77.
И впадает «новейший» в искреннее недоумение.
«Что это? О чем и ради чего написано? Кому адресовано? Что за дискурс! Как можно всерьез в начале третьего тысячелетия писать ровным пятистопным ямбом с перекрестной женской-мужской рифмой?! Ведь вся силлабо-тоника — одна бесконечная цитата, вменяемые люди ее используют коллажно и только в игровых целях. Да вообще "лирическое" письмо ус-та-ре-ло. Дожили! Опыт постмодернизма, оказывается, можно не учитывать! Об акционизме уж не говорю… Затем, что это за неловко драпируемый профетизм и что за сакрализация логоцентричности? А аллюзии на "Deus conservat omnia" и Ахматову ("Всего прочнее не земле печаль. / И долговечней — царственное слово") к чему? Чтоб сделать невыносимее дидактический пафос? А какую, простите, функцию выполняет лобовой повтор "…и станем выше слов"? Так, надо полагать, понимаются риторические приемы, работа с кольцевой композицией? Да еще и упоминание ветхого баснописца (!) в финале, пусть и якобы уравновешенное иронией… Не-ет, друзья мои, остается только руками развести… Похоже, тут об актуальных практиках слыхом не слыхивали, а от слова "верлибр" наверняка до сих пор падают в обморок. Ну и ну. Как же это все архаично, рутинно, вязко… Ей-богу, неловко за автора… И неужели это кем-то может быть востребовано?! Да и автору, если он честен перед самим собой, разве не мучительно скучно писать такое? Не постигаю!..»
Но и «традиционалист» не остается в долгу. Блуждает он, предположим, в дебрях Сети по эзотерическим литресурсам и набредает на такие строки:
«Что это? О чем и ради чего написано? Кому адресовано? Что за дискурс! Как можно всерьез в начале третьего тысячелетия писать ровным пятистопным ямбом с перекрестной женской-мужской рифмой?! Ведь вся силлабо-тоника — одна бесконечная цитата, вменяемые люди ее используют коллажно и только в игровых целях. Да вообще "лирическое" письмо ус-та-ре-ло. Дожили! Опыт постмодернизма, оказывается, можно не учитывать! Об акционизме уж не говорю… Затем, что это за неловко драпируемый профетизм и что за сакрализация логоцентричности? А аллюзии на "Deus conservat omnia" и Ахматову ("Всего прочнее не земле печаль. / И долговечней — царственное слово") к чему? Чтоб сделать невыносимее дидактический пафос? А какую, простите, функцию выполняет лобовой повтор "…и станем выше слов"? Так, надо полагать, понимаются риторические приемы, работа с кольцевой композицией? Да еще и упоминание ветхого баснописца (!) в финале, пусть и якобы уравновешенное иронией… Не-ет, друзья мои, остается только руками развести… Похоже, тут об актуальных практиках слыхом не слыхивали, а от слова "верлибр" наверняка до сих пор падают в обморок. Ну и ну. Как же это все архаично, рутинно, вязко… Ей-богу, неловко за автора… И неужели это кем-то может быть востребовано?! Да и автору, если он честен перед самим собой, разве не мучительно скучно писать такое? Не постигаю!..»
Но и «традиционалист» не остается в долгу. Блуждает он, предположим, в дебрях Сети по эзотерическим литресурсам и набредает на такие строки:
И впадает «традиционалист» в искреннее недоумение.
«Что это? О чем и ради чего написано? Кому адресовано? Что за стиховая техника! Точнее, ее отсутствие… Такое же можно катать километрами, не приходя в сознание. Поэзия, оказывается, "машина", да еще и "по совмещению всего" со всем без разбора, без внутренней логики, без живых образов, внятного смысла и человеческих эмоций. Дожили! Какой-то трансгуманизм, прости Господи. Этак, знаете ли, все что угодно можно назвать искусством. Да он вообще ремеслом-то владеет? Ну, для красного словца бедный Эшбери всуе упомянут — ясное дело, мода, но зачем неловкий внутрисловный анжамбеман "мы-/шление"? Небось, ни одного венка сонетов в жизни не сплел… А главное, текст несамодостаточен, он фантомно существует на подпорках пустопорожней теории, искусственного социального контекста и унылого перформанса. Готов поспорить, автор не в стоянии выучить свои писания наизусть, потому что запоминаться там не-че-му, нет художественного события. Конечно, актуальное — эвфемизм конъюнктурного, но нельзя же так подставляться! Не-ет, друзья мои, остается только руками развести. Ну и ну. Как же это все претенциозно, имитационно, фейсбучно… Ей-богу, неловко за автора… И неужели это кем-то может быть востребовано?! Да и автору, если он честен перед самим собой, разве не мучительно скучно писать такое? Не постигаю!..»
Находится ли истина в таком воображаемом мысленном споре посередине — или вообще нигде, решать стороннему наблюдателю, причем, скорее всего, не современному. Очень интересно было бы узнать об отношении к нынешним параллельным поэтическим мирам читателя, скажем, из 2119 года. А вдруг он равнодушно пройдет мимо и тех, и этих, предпочтя им, как само собой разумеющееся, поэта, которого не причислишь ни к «архаистам», ни к «новаторам», почти не замечаемого современниками, но пишущего то, что впоследствии эстетически будет представлять всю нашу эпоху?..
«Что это? О чем и ради чего написано? Кому адресовано? Что за стиховая техника! Точнее, ее отсутствие… Такое же можно катать километрами, не приходя в сознание. Поэзия, оказывается, "машина", да еще и "по совмещению всего" со всем без разбора, без внутренней логики, без живых образов, внятного смысла и человеческих эмоций. Дожили! Какой-то трансгуманизм, прости Господи. Этак, знаете ли, все что угодно можно назвать искусством. Да он вообще ремеслом-то владеет? Ну, для красного словца бедный Эшбери всуе упомянут — ясное дело, мода, но зачем неловкий внутрисловный анжамбеман "мы-/шление"? Небось, ни одного венка сонетов в жизни не сплел… А главное, текст несамодостаточен, он фантомно существует на подпорках пустопорожней теории, искусственного социального контекста и унылого перформанса. Готов поспорить, автор не в стоянии выучить свои писания наизусть, потому что запоминаться там не-че-му, нет художественного события. Конечно, актуальное — эвфемизм конъюнктурного, но нельзя же так подставляться! Не-ет, друзья мои, остается только руками развести. Ну и ну. Как же это все претенциозно, имитационно, фейсбучно… Ей-богу, неловко за автора… И неужели это кем-то может быть востребовано?! Да и автору, если он честен перед самим собой, разве не мучительно скучно писать такое? Не постигаю!..»
Находится ли истина в таком воображаемом мысленном споре посередине — или вообще нигде, решать стороннему наблюдателю, причем, скорее всего, не современному. Очень интересно было бы узнать об отношении к нынешним параллельным поэтическим мирам читателя, скажем, из 2119 года. А вдруг он равнодушно пройдет мимо и тех, и этих, предпочтя им, как само собой разумеющееся, поэта, которого не причислишь ни к «архаистам», ни к «новаторам», почти не замечаемого современниками, но пишущего то, что впоследствии эстетически будет представлять всю нашу эпоху?..
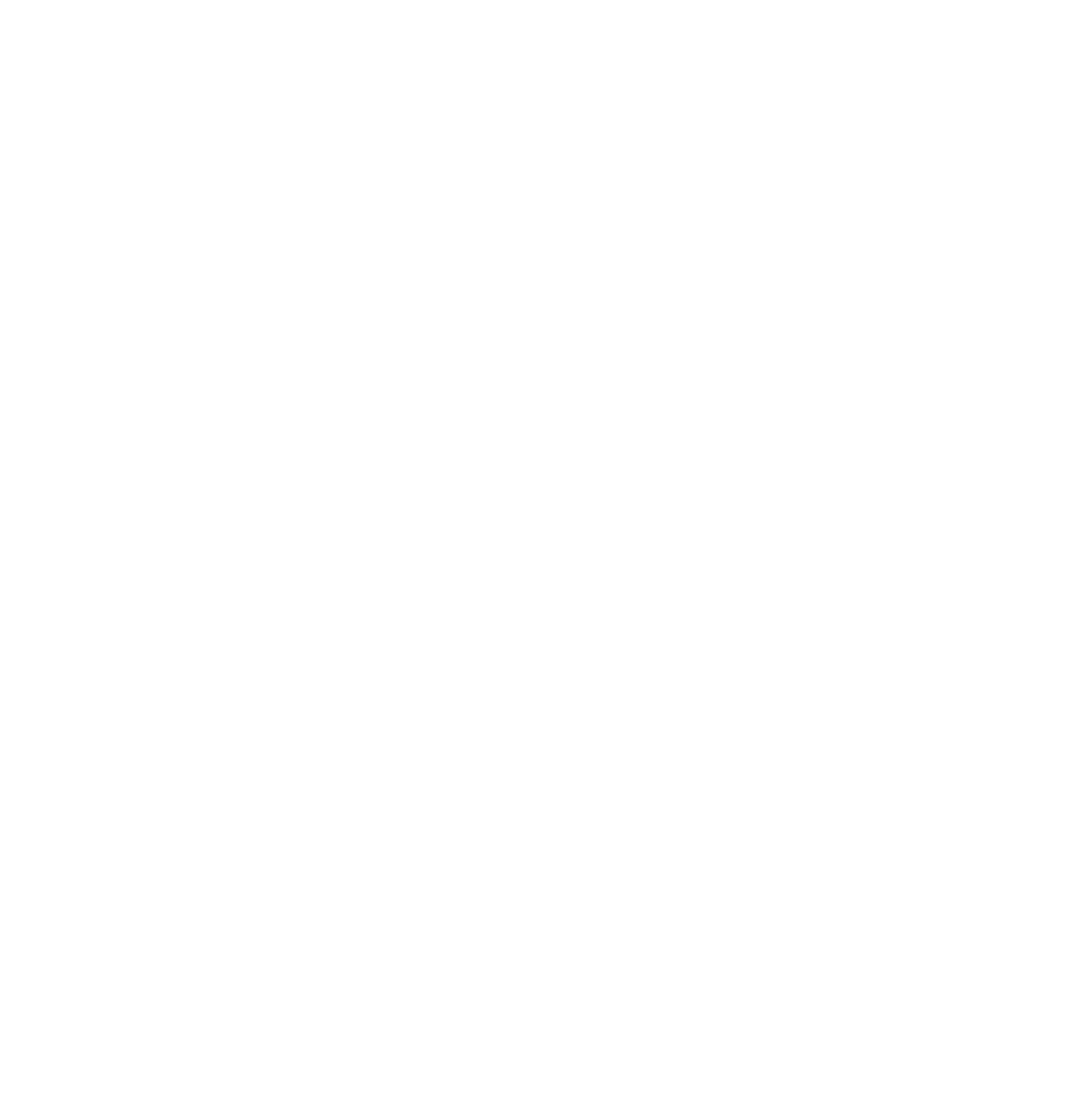
Сергей Баталов
Слово «поэзия», без всякого сомнения, является одним из самых неопределенных слов русского языка. Диапазон значений, которыми наделяют его разные люди, столь широк, что нам сложно даже представить ту бездну, которая пролегла между отдельными значениями этого слова. Так, скажем, для человека, воспитанного на поэзии классической, нет ничего более далекого, чем-то, что называют поэзией «актуальной». Редкую возможность понять логику этих далеких от классического понимания поэзии взглядов дает нам премия Драгомощенко. Согласно условиям премии, номинатор, заявляя претендента, обязан публично обосновать свой выбор. В силу чего мы можем понять его логику, критерии отбора, а заодно проверить, насколько соответствует теория практике. Попробуем поразмышлять над этими вопросами и мы на примере трех «шорт-листеров» этого сезона.
Бросается в глаза, что номинаторы всех трех финалистов пытаются вывести особенности их поэтики из обстоятельств их существования. Так, предоставляя на конкурс подборку украинского поэта Даниила Задорожного, Янис Синайко говорит о левой меланхолии «восточноевропейского субъекта, перемещающегося в ландшафтах личной травмы». Он же отмечает важность мест, «из которых пишутся эти тексты», имея в виду положение Даниила как поэта, существующего между Россией и Украиной. Лида Юсупова пытается найти стремление к «организации материи» в стихах Еганы Джаббаровой. Эту организацию она видит в сочувствии автора к своим персонажам, в погружении в «кровь истории», в стремлении к семье — в данном случае, мусульманской. Виталий Лехциер видит в поэзии Влада Гагина попытку «выразить поэтическими средствами идентичность интеллектуала нового поколения».
Впрочем, по мысли Яниса Синайко, «онтологическая запутанность» лирического героя того же Даниила Задорожного тем не менее позволяет ему задавать критические вопросы к себе и к миру, стремиться установлению «новых связей» и «нового нарратива». Да и Виталий Лехциер честно признает, что попытка выражения идентичности Влада Гагина исходя из его политических взглядов оказалась безуспешна.
И в этом, наверное, главная тенденция, свойственная не только произведениям финалистов, но и всем стихам премии. Потому что никакой идентичности, на самом деле, их авторы не ощущают. Никто уже не связывает свою личность с политическими взглядами, местом рождения или религией. Так, не чувствует никакой связи с мусульманским миром лирическая героиня Еганы Джаббаровой. Мир ислама, мир традиционного общества предстает практически тюрьмой, из которой безуспешно пытаются вырваться персонажи ее жутковатых историй.
Безнадежность попыток осмысления мира испытывает Даниил Задорожный. Не находит он никаких «новых связей». Старых, впрочем, тоже. Лирический герой ощущает себя в условиях принципиально непознаваемого. Мира, где можно лишь наблюдать загадочные следствия неизвестных причин. Страны, относительно которой неизвестно, «волны ты // или частица». Жизни, в которой есть много такого, «чего нет, но что, тем не менее, влияет и действует».
Схожие ощущения бессмысленности мироздания испытывает и Влад Гагин: «М. вспоминает историю человека // после инсульта переставшего видеть движение // только череда, последовательность // кадров…»
В итоге у всех троих мы видим одиночество скорее экзистенционального, чем социального свойства, растерянность перед жестоким и непознанным миром. Но достаточно ли этого, чтобы отнести данные стихи к явлению поэтического? Меня смущает этот вопрос. Потому что, если читать подряд лонг-лист, включенные в него стихи в своей массе ощущение потерянности и одиночества только отражают. Но не вызывают.
А вызывают они скорее ощущение недоумения и уныния. Во многом — от своей одинаковости.
Впрочем, по мысли Яниса Синайко, «онтологическая запутанность» лирического героя того же Даниила Задорожного тем не менее позволяет ему задавать критические вопросы к себе и к миру, стремиться установлению «новых связей» и «нового нарратива». Да и Виталий Лехциер честно признает, что попытка выражения идентичности Влада Гагина исходя из его политических взглядов оказалась безуспешна.
И в этом, наверное, главная тенденция, свойственная не только произведениям финалистов, но и всем стихам премии. Потому что никакой идентичности, на самом деле, их авторы не ощущают. Никто уже не связывает свою личность с политическими взглядами, местом рождения или религией. Так, не чувствует никакой связи с мусульманским миром лирическая героиня Еганы Джаббаровой. Мир ислама, мир традиционного общества предстает практически тюрьмой, из которой безуспешно пытаются вырваться персонажи ее жутковатых историй.
Безнадежность попыток осмысления мира испытывает Даниил Задорожный. Не находит он никаких «новых связей». Старых, впрочем, тоже. Лирический герой ощущает себя в условиях принципиально непознаваемого. Мира, где можно лишь наблюдать загадочные следствия неизвестных причин. Страны, относительно которой неизвестно, «волны ты // или частица». Жизни, в которой есть много такого, «чего нет, но что, тем не менее, влияет и действует».
Схожие ощущения бессмысленности мироздания испытывает и Влад Гагин: «М. вспоминает историю человека // после инсульта переставшего видеть движение // только череда, последовательность // кадров…»
В итоге у всех троих мы видим одиночество скорее экзистенционального, чем социального свойства, растерянность перед жестоким и непознанным миром. Но достаточно ли этого, чтобы отнести данные стихи к явлению поэтического? Меня смущает этот вопрос. Потому что, если читать подряд лонг-лист, включенные в него стихи в своей массе ощущение потерянности и одиночества только отражают. Но не вызывают.
А вызывают они скорее ощущение недоумения и уныния. Во многом — от своей одинаковости.
Хотя премия Драгомощенко позиционирует себя как премия для инновационных поэтических практик, ничего особо инновационного там нет. В массе своей премиальные стихи — это просто очень длинные верлибры с преобладанием «затемненной», суггестивной лирики, что, видимо, призвано отразить сложные душевные переживания поэтов. По большей части они написаны с общей довольно монотонной, несколько отстраненной интонацией. Яркие метафоры, острые мысли, наблюдения отыскать в них довольно сложно.
Некоторые номинаторы видят в этом достоинство. Так, Евгения Суслова в сопроводительном письме к подборке Анны Родионовой отмечает стремление к избавлению от «связности речи» и высказывает надежду, что «лирический импульс» будет передаваться без этой устаревшей связности.
Но в результате становятся практически неразличимы индивидуальные голоса поэтов — при чтении лонга они сливаются в сплошной монотонный гул. И за всем этим кроется проблема, общая для всей «актуальной» поэзии, но вряд ли осознаваемая ею.
У Аркадия Драгомощенко есть эссе, которое называется «Колесо дома». В этом, кстати, великолепно написанном эссе Драгомощенко рассказывает странную историю Сары Парди, наследницы состояния семьи Винчестер. Опасаясь мести душ, убитых из оружия этой торговой марки, Сара начала строить дом и продолжала строительство всю жизнь. Получившаяся в итоге «Llanda Villa», со слов Драгомощенко, «являет собой произведение, абсолютно ничего общего не имеющее с тем, что называется архитектурным замыслом как таковым». «Дом-процесс», «нескончаемое послание духам», Драгомощенко не жалеет метафор, подчеркивая главную его особенность: отсутствие единого замысла при постройке. Этот дом — не для людей, он принципиально не рассчитан на их интересы и потребности.
Эта история, включая отношение к западной цивилизации как к инструменту насилия, возможно, много объясняет в творчестве самого Аркадия Драгомощенко. И в творчестве людей, ставших участниками конкурса, носящего его имя. По сути, все они строят свои «Llanda Villa», плетя лабиринты из слов в попытке запутать злых духов (и, видимо, читателей).
По сути, основной «инновацией» актуальной поэзии стала бесконечная фиксация, бесконечная хроника столкновений с окружающим миром. Не случаен в этой связи интерес к «литературе травмы» и «документальной» поэзии — в последнем случае, в стихи путем легкого редактирования превращается даже обычная переписка в соцсетях.
Но дело в том, что для самого Аркадия Драгомощенко постройка подобного лабиринта имела смысл лишь как способ движения к высшему смыслу, как способ понять «какое-то мучительно необходимое, но недостижимое воспоминание». Другими словами, важна тайна. Такая, как загадочные зеркала на «Llanda Villa»: «предание гласит, что в доме находится два зеркала, однако найти их почти невозможно, поскольку они принадлежат к так называемым "блуждающим зеркалам". На Востоке такие зеркала в ночь определения открывали глядящему в них мир высшей симметрии. Согласимся, слово "почти" оставляет надежду».
Надеемся и мы. Но для того, чтобы мы могли найти зеркала, автор должен их там спрятать. Что предполагает наличие замысла. А любой замысел — это уже технология. И продуманная структура — дома или текста — которая все-таки оставляет возможность случайному гостю заглянуть в «мир высшей симметрии».
Так, блеск бутылочного осколка у Чехова, о котором вспоминает Драгомощенко в другом эссе, для читателя должно быть чудом, но для самого Чехова — это лишь прием. И парадокс литературы, как и всякого искусства, состоит в том, что одно не исключает другого. И настоящая инновативность заключается в поиске новых технологий, а не в отказе от них.
У кого из конкурсантов этого сезона мы можем увидеть эти зеркала? Пожалуй, у Еганы Джаббаровой. Ее холодноватые и страшные истории позволяют почувствовать сострадание к персонажам. Егана, и это нетипично для поэтов премии этого сезона, умеет выстроить структуру своих стихов. В результате, в моменты, когда дурная бесконечность историй насилия все-таки прерывается, мы можем почувствовать отблески некоего небесного света.
В целом же, остается сказать следующее. Премия Драгомощенко, равно как и вся актуальная поэзия, привлекает авторов, получивших новый экзистенциональный опыт вследствие кризиса современного общества, разрыва старых социальных связей. Этот опыт, безусловно, требует создания нового языка. Но сам язык, мне кажется, еще не создан, и современная актуальная поэзия лишь пытается найти его законы. Будем надеяться, что и авторам, и устроителям премии это удастся.
Но в результате становятся практически неразличимы индивидуальные голоса поэтов — при чтении лонга они сливаются в сплошной монотонный гул. И за всем этим кроется проблема, общая для всей «актуальной» поэзии, но вряд ли осознаваемая ею.
У Аркадия Драгомощенко есть эссе, которое называется «Колесо дома». В этом, кстати, великолепно написанном эссе Драгомощенко рассказывает странную историю Сары Парди, наследницы состояния семьи Винчестер. Опасаясь мести душ, убитых из оружия этой торговой марки, Сара начала строить дом и продолжала строительство всю жизнь. Получившаяся в итоге «Llanda Villa», со слов Драгомощенко, «являет собой произведение, абсолютно ничего общего не имеющее с тем, что называется архитектурным замыслом как таковым». «Дом-процесс», «нескончаемое послание духам», Драгомощенко не жалеет метафор, подчеркивая главную его особенность: отсутствие единого замысла при постройке. Этот дом — не для людей, он принципиально не рассчитан на их интересы и потребности.
Эта история, включая отношение к западной цивилизации как к инструменту насилия, возможно, много объясняет в творчестве самого Аркадия Драгомощенко. И в творчестве людей, ставших участниками конкурса, носящего его имя. По сути, все они строят свои «Llanda Villa», плетя лабиринты из слов в попытке запутать злых духов (и, видимо, читателей).
По сути, основной «инновацией» актуальной поэзии стала бесконечная фиксация, бесконечная хроника столкновений с окружающим миром. Не случаен в этой связи интерес к «литературе травмы» и «документальной» поэзии — в последнем случае, в стихи путем легкого редактирования превращается даже обычная переписка в соцсетях.
Но дело в том, что для самого Аркадия Драгомощенко постройка подобного лабиринта имела смысл лишь как способ движения к высшему смыслу, как способ понять «какое-то мучительно необходимое, но недостижимое воспоминание». Другими словами, важна тайна. Такая, как загадочные зеркала на «Llanda Villa»: «предание гласит, что в доме находится два зеркала, однако найти их почти невозможно, поскольку они принадлежат к так называемым "блуждающим зеркалам". На Востоке такие зеркала в ночь определения открывали глядящему в них мир высшей симметрии. Согласимся, слово "почти" оставляет надежду».
Надеемся и мы. Но для того, чтобы мы могли найти зеркала, автор должен их там спрятать. Что предполагает наличие замысла. А любой замысел — это уже технология. И продуманная структура — дома или текста — которая все-таки оставляет возможность случайному гостю заглянуть в «мир высшей симметрии».
Так, блеск бутылочного осколка у Чехова, о котором вспоминает Драгомощенко в другом эссе, для читателя должно быть чудом, но для самого Чехова — это лишь прием. И парадокс литературы, как и всякого искусства, состоит в том, что одно не исключает другого. И настоящая инновативность заключается в поиске новых технологий, а не в отказе от них.
У кого из конкурсантов этого сезона мы можем увидеть эти зеркала? Пожалуй, у Еганы Джаббаровой. Ее холодноватые и страшные истории позволяют почувствовать сострадание к персонажам. Егана, и это нетипично для поэтов премии этого сезона, умеет выстроить структуру своих стихов. В результате, в моменты, когда дурная бесконечность историй насилия все-таки прерывается, мы можем почувствовать отблески некоего небесного света.
В целом же, остается сказать следующее. Премия Драгомощенко, равно как и вся актуальная поэзия, привлекает авторов, получивших новый экзистенциональный опыт вследствие кризиса современного общества, разрыва старых социальных связей. Этот опыт, безусловно, требует создания нового языка. Но сам язык, мне кажется, еще не создан, и современная актуальная поэзия лишь пытается найти его законы. Будем надеяться, что и авторам, и устроителям премии это удастся.
А. Драгомощенко. Колесо дома // Избранные эссе из книги «Пыль». Новая юность. 2001. № 6.
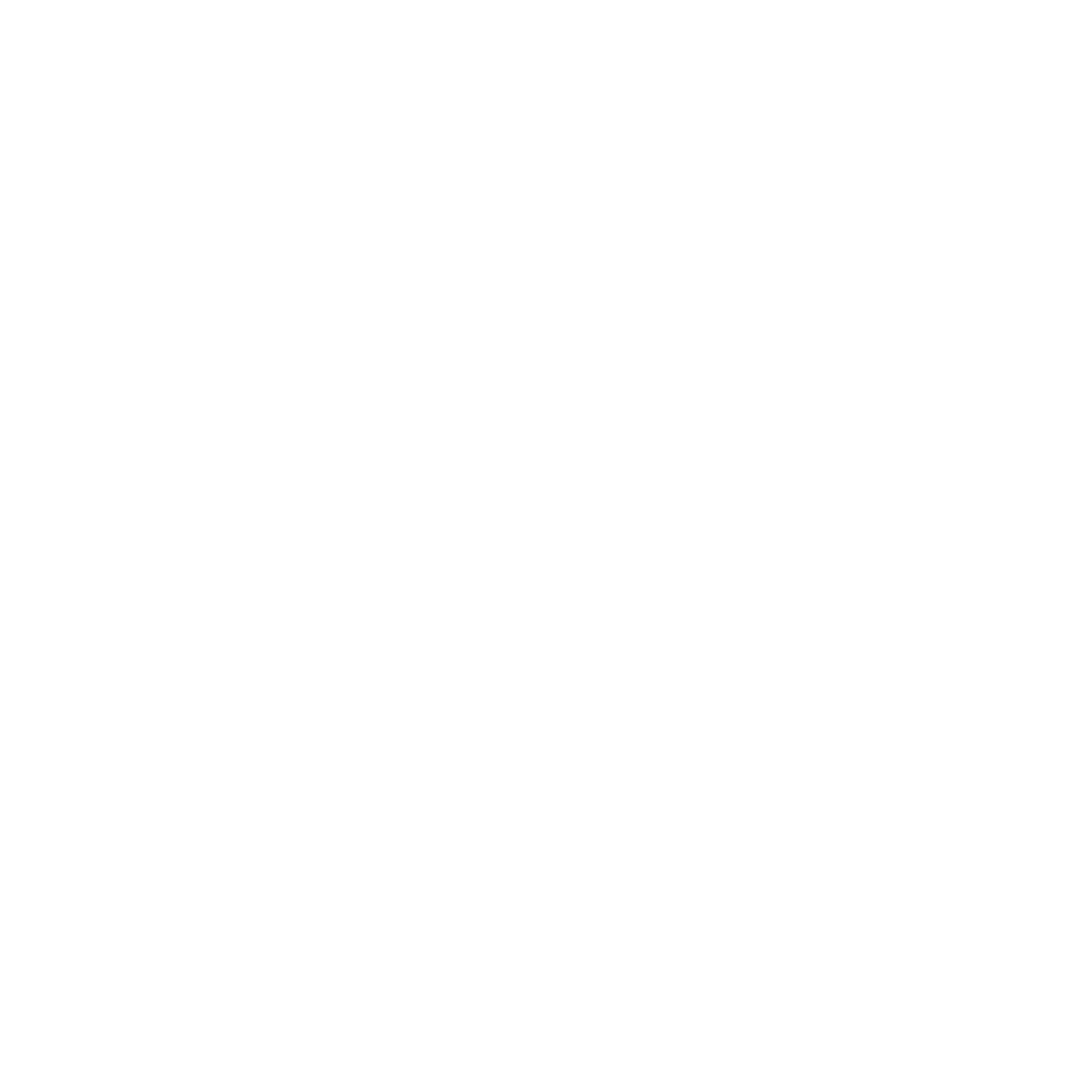
Анна Жучкова
Роман Сенчин медленно и методично наползает на современную критику. Упрекает критиков в тщедушности, малой питательной ценности и заглатывает их то поодиночке (А. Кузьменков), то пачками (двадцатилетние начала нулевых). Чего же он хочет? Оказывается, критику идеологическую вместо эстетической.
Но разве не идеологическая критика, которую начали Добролюбов, Чернышевский, Писарев, продолжили Плеханов и Луначарский, привела в итоге к соцреализму и утрате свободы интерпретации? Хотим повторения? Тезисы Сенчина во многом совпадают с теми:
Сенчин: «не расширенные разборы, а статьи, где тот или иной роман является поводом, точкой отталкивания. Отталкивания не в океан мировой всемирной литературы, а в реальную жизнь». Чернышевский: цель искусства — «общеинтересное в жизни», «приговор о явлениях ее».
Но разве не идеологическая критика, которую начали Добролюбов, Чернышевский, Писарев, продолжили Плеханов и Луначарский, привела в итоге к соцреализму и утрате свободы интерпретации? Хотим повторения? Тезисы Сенчина во многом совпадают с теми:
Сенчин: «не расширенные разборы, а статьи, где тот или иной роман является поводом, точкой отталкивания. Отталкивания не в океан мировой всемирной литературы, а в реальную жизнь». Чернышевский: цель искусства — «общеинтересное в жизни», «приговор о явлениях ее».
Сенчин: «Представители эстетической критики будут бесконечно ходить по кругу, изобретать велосипед <…> бесконечно спорить о том, как оценивать круглый стол овальной формы». Писарев: «Говорить об эстетике стоит только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство».
Если же Сенчин говорит «не о государственной идеологии, а об индивидуальной», делая камертоном критического высказывания личную мировоззренческую систему («какие-то произведения кажутся человеку совершенно пустыми, какие-то спорят с ним, какие-то могут разрушить или изменить его систему. И ему необходимо сообщить об этом миру»), то незачем среди бела дня с фонарем бегать. Instagram и Telegram полны книжных блогеров, «хватающихся за ручку» после каждой книги, чтобы сообщить об этом миру. Вот только термин «идеологическая критика» им никак не подходит.
Далее Сенчин переходит к критике «эстетической», представители которой «оценивают книги с точки зрения грамотности, оригинальности, зачастую сравнивают с уже известными (им, по крайней мере) образцами», употребляют «разные филологические словечки… чтобы позабавить публику и блеснуть креативностью, эрудицией». Но это критика не эстетическая, а дегустационная, пафос которой, как и пафос работы сомелье, в создании антуража. Подставим вместо «вина» «книги»: «Сладкие вина традиционно популярны в нашей стране, поэтому мы предлагаем самые лучшие купажированные и моносортовые вина в этой категории. Яркие, ароматные, гастрономичные, дружелюбные, понятные широкому кругу потребителей». У сомелье тоже много магнетизирующих «словечек»: «с древесным тоном, богатое, пряное, хрустящее», «чернильное», «со штрихом». Изысканно, волнующе, непонятно. И так же мало относится к действию алкоголя, как дегустационная критика — к содержанию книги. Сложно устоять, если «Петровы в гриппе» и выдохшийся Пелевин рекламируются как «свежий, цветочный аромат с нотами лесного ореха, красных ягод и белых цветов с цитрусовыми, сливочными и ореховыми оттенками», подавать «с морепродуктами, устрицами, брускеттами и канапе с сыром». Дегустационные критики далеки от бодлеровского «enivrez-vous… de vin, de poésie, ou de vertu», но восхитительно работают с настроением.
Есть и спившиеся сомелье: критики, смытые потоком отечественной словесности. Бедняги бултыхаются в литпроцессе с воплями: суслосос, мезгажуй, недовыбродок, мерло чилийское. Им кажется, они соединили бодлеровское «il faut être toujours ivre» с хлебниковским «о, засмейтесь усмеяльно!», но со стороны видно иное, конфузное: употребляют бессистемно, берут количеством, а не качеством, под видом анализа гонят шаржи, банальщину («молодое вино кислит») и стада квазиблох.
Если же Сенчин говорит «не о государственной идеологии, а об индивидуальной», делая камертоном критического высказывания личную мировоззренческую систему («какие-то произведения кажутся человеку совершенно пустыми, какие-то спорят с ним, какие-то могут разрушить или изменить его систему. И ему необходимо сообщить об этом миру»), то незачем среди бела дня с фонарем бегать. Instagram и Telegram полны книжных блогеров, «хватающихся за ручку» после каждой книги, чтобы сообщить об этом миру. Вот только термин «идеологическая критика» им никак не подходит.
Далее Сенчин переходит к критике «эстетической», представители которой «оценивают книги с точки зрения грамотности, оригинальности, зачастую сравнивают с уже известными (им, по крайней мере) образцами», употребляют «разные филологические словечки… чтобы позабавить публику и блеснуть креативностью, эрудицией». Но это критика не эстетическая, а дегустационная, пафос которой, как и пафос работы сомелье, в создании антуража. Подставим вместо «вина» «книги»: «Сладкие вина традиционно популярны в нашей стране, поэтому мы предлагаем самые лучшие купажированные и моносортовые вина в этой категории. Яркие, ароматные, гастрономичные, дружелюбные, понятные широкому кругу потребителей». У сомелье тоже много магнетизирующих «словечек»: «с древесным тоном, богатое, пряное, хрустящее», «чернильное», «со штрихом». Изысканно, волнующе, непонятно. И так же мало относится к действию алкоголя, как дегустационная критика — к содержанию книги. Сложно устоять, если «Петровы в гриппе» и выдохшийся Пелевин рекламируются как «свежий, цветочный аромат с нотами лесного ореха, красных ягод и белых цветов с цитрусовыми, сливочными и ореховыми оттенками», подавать «с морепродуктами, устрицами, брускеттами и канапе с сыром». Дегустационные критики далеки от бодлеровского «enivrez-vous… de vin, de poésie, ou de vertu», но восхитительно работают с настроением.
Есть и спившиеся сомелье: критики, смытые потоком отечественной словесности. Бедняги бултыхаются в литпроцессе с воплями: суслосос, мезгажуй, недовыбродок, мерло чилийское. Им кажется, они соединили бодлеровское «il faut être toujours ivre» с хлебниковским «о, засмейтесь усмеяльно!», но со стороны видно иное, конфузное: употребляют бессистемно, берут количеством, а не качеством, под видом анализа гонят шаржи, банальщину («молодое вино кислит») и стада квазиблох.
Но ни ловля блох после передоза отечественной словесностью, ни дебаты о круглом столе овальной формы не имеют отношения к эстетической критике и не обладают тем, что делает критику настоящей.
Первое — чувства. Еще Кант говорил: «суждение называется эстетическим именно потому, что определяющее основание его есть не понятие, а чувство (внутреннее чувство) гармонии в игре душевных сил». Второе — анализ структуры, разговор о том, как произведение сделано: «комментарий должен быть направлен на то, чтобы произведение стало для нас более, а не менее реальным. Функция критики — показать, что делает его таким, каково оно есть».
У «эстетической критики» есть адрес: труды Дружинина и Анненкова, продолжающие «органическую критику» Ап. Григорьева, который ориентировался на «философию целостного человека» Ф. Шлегеля. Для Шлегеля критика — способ завершения произведения: «критика сравнивает произведение с его собственным идеалом». Григорьев считал произведение — целостным организмом, а критическим суждением чувство, «вымучившееся до формулы», Дружинин и Анненков расширили понимание целостности и органичности до связи литературы, общества и изучения отношений, возникающих между ними. Продолжая в том же ключе, Вл. Соловьев утверждал, что «эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности», но утилитарными методами этого не достичь: «вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только чрез свое просветление, одухотворение, т. е. только в форме красоты». Красота для Вл. Соловьева — понятие определимое. Это структура, части которой достигают «наибольшей самостоятельности при наибольшем единстве целого. Критерий эстетического достоинства есть наиболее законченное и многостороннее воплощение этого в материале».
Как в человеческом организме каждый орган выполняет свою функцию, но при этом в единстве целого, так и в литературном произведении. Эстетическая критика и рассматривает произведение как организм, на разных уровнях (образ мира, композиция, язык) воплощающий личность автора и еще нечто большее. Так иконы, не сводимые к крашеной доске и портретному изображению, воплощают дух святого и еще нечто большее, но, чтобы это осознавать, нужно знание религиозного контекста, символики цвета и композиции. Эстетическая критика показывает, как — органически — идея проявляет себя в материале, как пронизывает и одухотворяет его; она исследует взаимодействие материала и озаряющей его идеи, их целостность, воплощенную в художественной форме.
Такая критика сегодня — это Артем Скворцов и молодой обозреватель «Года Литературы» Андрей Мягков. Сергей Оробий и Михаил Хлебников. Елена Зейферт и Сергей Баталов. Так пишет Юлия Подлубнова о поэзии Екатерины Симоновой, Елена Погорелая о Маше Рупасовой, Ольга Девш о Елене Лапшиной. У Лизы Новиковой и Екатерины Федорчук, о чем бы ни писали, получается эстетическая критика. И скольких я еще не назвала.
У «эстетической критики» есть адрес: труды Дружинина и Анненкова, продолжающие «органическую критику» Ап. Григорьева, который ориентировался на «философию целостного человека» Ф. Шлегеля. Для Шлегеля критика — способ завершения произведения: «критика сравнивает произведение с его собственным идеалом». Григорьев считал произведение — целостным организмом, а критическим суждением чувство, «вымучившееся до формулы», Дружинин и Анненков расширили понимание целостности и органичности до связи литературы, общества и изучения отношений, возникающих между ними. Продолжая в том же ключе, Вл. Соловьев утверждал, что «эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности», но утилитарными методами этого не достичь: «вещественное бытие может быть введено в нравственный порядок только чрез свое просветление, одухотворение, т. е. только в форме красоты». Красота для Вл. Соловьева — понятие определимое. Это структура, части которой достигают «наибольшей самостоятельности при наибольшем единстве целого. Критерий эстетического достоинства есть наиболее законченное и многостороннее воплощение этого в материале».
Как в человеческом организме каждый орган выполняет свою функцию, но при этом в единстве целого, так и в литературном произведении. Эстетическая критика и рассматривает произведение как организм, на разных уровнях (образ мира, композиция, язык) воплощающий личность автора и еще нечто большее. Так иконы, не сводимые к крашеной доске и портретному изображению, воплощают дух святого и еще нечто большее, но, чтобы это осознавать, нужно знание религиозного контекста, символики цвета и композиции. Эстетическая критика показывает, как — органически — идея проявляет себя в материале, как пронизывает и одухотворяет его; она исследует взаимодействие материала и озаряющей его идеи, их целостность, воплощенную в художественной форме.
Такая критика сегодня — это Артем Скворцов и молодой обозреватель «Года Литературы» Андрей Мягков. Сергей Оробий и Михаил Хлебников. Елена Зейферт и Сергей Баталов. Так пишет Юлия Подлубнова о поэзии Екатерины Симоновой, Елена Погорелая о Маше Рупасовой, Ольга Девш о Елене Лапшиной. У Лизы Новиковой и Екатерины Федорчук, о чем бы ни писали, получается эстетическая критика. И скольких я еще не назвала.
И. Кант. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. С. 97.
С. Зонтаг. Против интерпретации и другие эссе. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 24.
Ф. Шлегель. Эстетика. Философия. Критика. В 2 тт. М.: Искусство, 1983. Т. 1. С. 17.
Ап. Григорьев. Цит. по: С. Вайман, «К сердцу сердцем…» (Об «органической критике» Аполлона Григорьева) // Вопросы литературы. 1988. № 2. С. 150-181.
В. Соловьев. Красота в природе // В. Соловьев. Красота как преображающая сила. М.: Рипол Классик, 2017. С. 11.
Там же. С. 19.
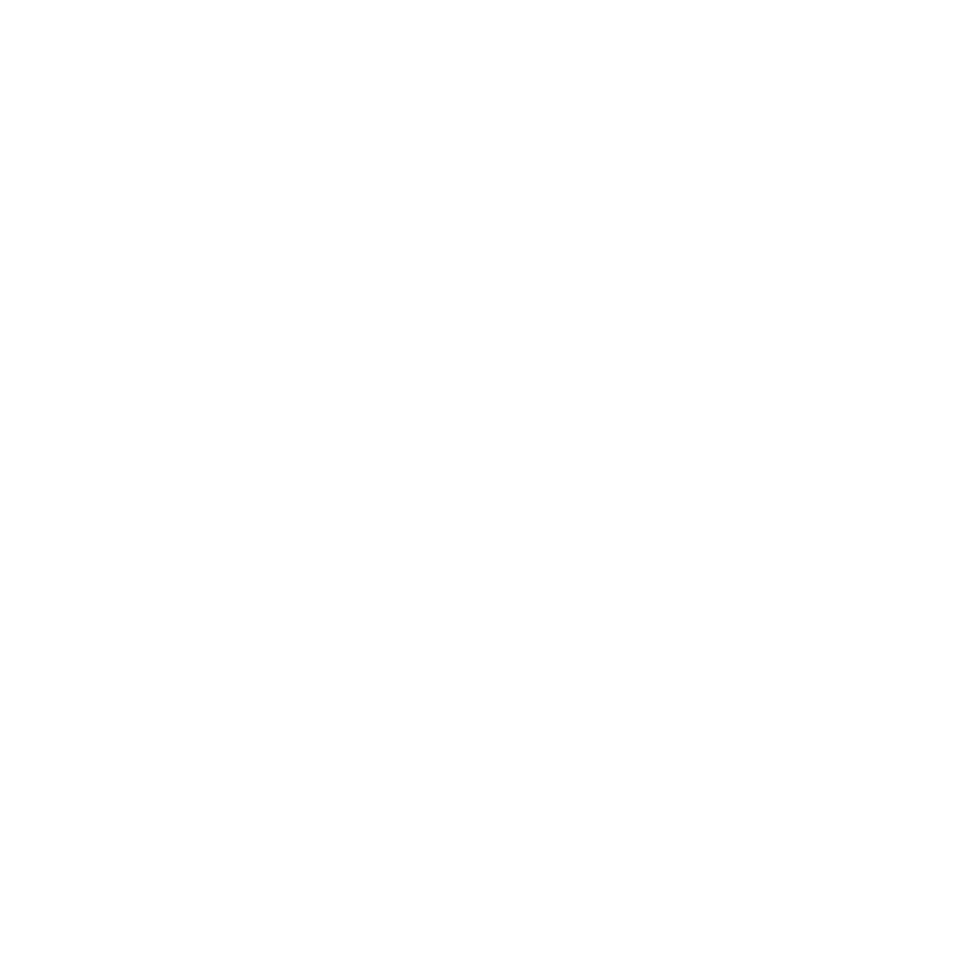
Игорь Дуардович
Раз в году «Esquire» (речь, конечно, о русской версии) делает литературный выпуск, публикуя все сливки, имена большие и малые. Литературный выпуск всегда привлекает внимание, а этим летом был какой-то особенный ажиотаж, читателям пришлось охотиться за номером в Подмосковье («искали, еле вырвали — нашли!»), так как в самой Москве журнал быстро разобрали (общий тираж 70 000). Интересно, почему? Потому ли, что в номере напечатался Глуховский, навечно автор «Метро», или нобелевский лауреат Исигуро, или сын Стивена Кинга, пишущий под именем Джо Хилл? Или потому, что приглашенным редактором выступила Галина Юзефович, которая теперь после Белинского? Так ее всюду представляют — как главного критика страны, а она поправляет — просто читатель.
Esquire. 2019. Август.
Зачем нужна литература сегодня — спрашивают Юзефович. «…Это, конечно, ''для удовольствия''», — отвечает она, констатируя непростое положение литературы, которая впервые за всю историю, по словам главкритика, начала себя продавать. Но хочется спросить: а как же успешные «дельцы» Л. Толстой, Гюго, Дюма-отец и друзья Пушкина, здорово зарабатывавшие на продажах «Онегина»? И поспорить: продает себя не литература, продает себя печать, и раньше было гораздо сложнее напечататься — издатели не рисковали тратить деньги на то, что заведомо не окупится. Сегодня же они зарабатывают в обе стороны. Так что литературе думать о деньгах не впервой. Как и об удовольствии.
Про удовольствие от литературы говорилось еще в античности, афоризм Юзефович не нов. Другое дело — то, что относится к химии этого удовольствия: слои, значения, второе-третье дно… И так как речь идет о потребителе, который без литературы легко обходится, сделана оговорка, тоже известная: «...прелесть литературы, отчасти в самом деле оправдывающая ее особую позицию среди других искусств, состоит в многозначности и многослойности, заложенных в самой ее природе».
В номере рассказы (он исключительно прозаический), но Юзефович обещает не просто «выложенные на поверхность увлекательные сюжеты». Тексты предваряют краткие справки об авторах с указанием, где и как здесь следует искать «удовольствие»: «Каждый текст Марии Галиной — это неоднозначность, недосказанность и мерцание … читателю каждый раз приходится конструировать развязку, выбирая один из намеченных автором вариантов». Но после прочтения той же Галиной, как и всего номера, остается легкое недоумение: обещали «второе (а иногда и третье, и четвертое)», но иной раз не дали даже самого, казалось бы, простого первого — «крепкой, хорошо придуманной и убедительно рассказанной истории». В случае с Галиной рассказ напоминает раздавшееся во всю ширь или раскатанное, как блин, стихотворение, совершенно рядовое, по типу тех, что Галина писала и пишет — такой нескончаемый «новый эпос», о котором уже начали забывать. И как бы в доказательство этой мысли рассказ в самом конце резко сжимается — обратно в стихотворение. Но оно не становится своего рода затычкой в горлышке сюжета, и финал остается открытым. В итоге то, что в «новом эпосе» может быть оправдано ограниченностью места, в рассказе выливается в пластмассовых, однобоких, как герои комикса, персонажей и в пустые красивости, которым не веришь. Где хочешь понять персонажа, тебя отвлекают: «…и нарядные люди сидят за столиками и смотрят в глаза своим отражениям, висящим в темном воздухе над темной водой». То же самое с хвостиком-стихотворением в конце. Весь рассказ производит впечатление сыроватого этюда. С точки зрения композиции номера это плохая затравка для читателя: вместо подтверждения слов главкритика — моментальный пшик.
Надеялся дальше все-таки нащупать потайные двери и добраться до подполов смысла, о которых говорила Юзефович, однако и другие рассказы оказались не лучше.
В юности очень любил фантастику, причем любую. Нередко это был палп, например, Хаббард, начинающийся ни с чего и кончающийся тоже ничем. Удивительно писучий автор, Хаббард много писал исключительно ради денег. У него даже специальная тетрадка была, где он считал количество написанного и гонорары. Естественно, ни о какой продуманности и идеях тут не могло быть и речи. Главное — увлекательность. Собственно, и само слово палп происходит от очень дешевой, плохой бумаги, на которой все это печаталось. Так вот, нынешний литературный номер «Esquire» и отобранные Юзефович вещи — самый настоящий палп-фикшн. Только глянец. Единственное, что выбивается, рассказ Исигуро «Лето после войны», кажущийся совершенно случайным в этом ряду. Здесь нет ни фантастических тварей, ни расчлененки, ни городов-призраков и живых мертвецов, как в других текстах номера, а только классическая история взросления. К тому же этот рассказ, опубликованный, кстати, в начале 1980-х, – рассказ с мощным зарядом романа, с его готовым "образом" внутри, он содержит зерно высшего порядка. И тут Юзефович верно отметила его «связь с одним из ранних романов писателя ''Там, где в дымке холмы''».
«…Но кто сказал, что удовольствие обязано быть предсказуемым, одномерным и простым»? Ведь удовольствие бывает еще пассивным и активным, как и само чтение. Пассивное чтение сродни просмотру телевизора, роликов в интернете, соцсетям, компьютерным играм. Это палп-фикшн, низовая фантастика, комиксы, детективы и бульварное чтиво. От них, бывает, остается чувство пустоты, скуки и недовольства собой, то есть убитым временем. И совсем другое — чтение большой литературы, над которой читателю нужно работать, — такое чтение я называю активным.
Странно, что Юзефович совсем забыла об уровнях литературы: есть беллетристика, а есть «большие» роман и рассказ, иначе бы ей не пришлось выдумывать несуществующие «многослойности» и «многозначности».
Про удовольствие от литературы говорилось еще в античности, афоризм Юзефович не нов. Другое дело — то, что относится к химии этого удовольствия: слои, значения, второе-третье дно… И так как речь идет о потребителе, который без литературы легко обходится, сделана оговорка, тоже известная: «...прелесть литературы, отчасти в самом деле оправдывающая ее особую позицию среди других искусств, состоит в многозначности и многослойности, заложенных в самой ее природе».
В номере рассказы (он исключительно прозаический), но Юзефович обещает не просто «выложенные на поверхность увлекательные сюжеты». Тексты предваряют краткие справки об авторах с указанием, где и как здесь следует искать «удовольствие»: «Каждый текст Марии Галиной — это неоднозначность, недосказанность и мерцание … читателю каждый раз приходится конструировать развязку, выбирая один из намеченных автором вариантов». Но после прочтения той же Галиной, как и всего номера, остается легкое недоумение: обещали «второе (а иногда и третье, и четвертое)», но иной раз не дали даже самого, казалось бы, простого первого — «крепкой, хорошо придуманной и убедительно рассказанной истории». В случае с Галиной рассказ напоминает раздавшееся во всю ширь или раскатанное, как блин, стихотворение, совершенно рядовое, по типу тех, что Галина писала и пишет — такой нескончаемый «новый эпос», о котором уже начали забывать. И как бы в доказательство этой мысли рассказ в самом конце резко сжимается — обратно в стихотворение. Но оно не становится своего рода затычкой в горлышке сюжета, и финал остается открытым. В итоге то, что в «новом эпосе» может быть оправдано ограниченностью места, в рассказе выливается в пластмассовых, однобоких, как герои комикса, персонажей и в пустые красивости, которым не веришь. Где хочешь понять персонажа, тебя отвлекают: «…и нарядные люди сидят за столиками и смотрят в глаза своим отражениям, висящим в темном воздухе над темной водой». То же самое с хвостиком-стихотворением в конце. Весь рассказ производит впечатление сыроватого этюда. С точки зрения композиции номера это плохая затравка для читателя: вместо подтверждения слов главкритика — моментальный пшик.
Надеялся дальше все-таки нащупать потайные двери и добраться до подполов смысла, о которых говорила Юзефович, однако и другие рассказы оказались не лучше.
В юности очень любил фантастику, причем любую. Нередко это был палп, например, Хаббард, начинающийся ни с чего и кончающийся тоже ничем. Удивительно писучий автор, Хаббард много писал исключительно ради денег. У него даже специальная тетрадка была, где он считал количество написанного и гонорары. Естественно, ни о какой продуманности и идеях тут не могло быть и речи. Главное — увлекательность. Собственно, и само слово палп происходит от очень дешевой, плохой бумаги, на которой все это печаталось. Так вот, нынешний литературный номер «Esquire» и отобранные Юзефович вещи — самый настоящий палп-фикшн. Только глянец. Единственное, что выбивается, рассказ Исигуро «Лето после войны», кажущийся совершенно случайным в этом ряду. Здесь нет ни фантастических тварей, ни расчлененки, ни городов-призраков и живых мертвецов, как в других текстах номера, а только классическая история взросления. К тому же этот рассказ, опубликованный, кстати, в начале 1980-х, – рассказ с мощным зарядом романа, с его готовым "образом" внутри, он содержит зерно высшего порядка. И тут Юзефович верно отметила его «связь с одним из ранних романов писателя ''Там, где в дымке холмы''».
«…Но кто сказал, что удовольствие обязано быть предсказуемым, одномерным и простым»? Ведь удовольствие бывает еще пассивным и активным, как и само чтение. Пассивное чтение сродни просмотру телевизора, роликов в интернете, соцсетям, компьютерным играм. Это палп-фикшн, низовая фантастика, комиксы, детективы и бульварное чтиво. От них, бывает, остается чувство пустоты, скуки и недовольства собой, то есть убитым временем. И совсем другое — чтение большой литературы, над которой читателю нужно работать, — такое чтение я называю активным.
Странно, что Юзефович совсем забыла об уровнях литературы: есть беллетристика, а есть «большие» роман и рассказ, иначе бы ей не пришлось выдумывать несуществующие «многослойности» и «многозначности».
Вообще все разговоры о проблемах литературы и массового искусства или рынка так и тянут перефразировать Шекспира: в наш жирный век литература должна просить прощения у «таких монстров, как кино, сериалы, еда, путешествия» за то, что она существует.
Можно рассуждать о влиянии массового на литературу, но в действительности оно окажется сильно преувеличенным — просто потому, что массовое черпает из «большого», а не наоборот: это роман влияет на кино, а не кино на роман, и большое кино в итоге растет из большого романа (Е. Абдуллаев уже писал об этом в одной из «Кавалерий» и приводил высокий по сравнению с Россией процент экранизируемых книг на Западе, что, как следует из статьи, и обуславливает уровень). Роман вообще представляется мне незыблемой цитаделью литературы, в которой укроются сразу все (в итоге и укрываются сегодня) — в том числе и поэзия, дикая краснокнижная птичка. Кстати, поэзии в «Esquire» совсем не нашлось места, даже рэпу, за исключением разве что галинского «хвостика» рассказа, что показательно.
И напоследок немного об идеологии номера. С точки зрения геополитики в нем выстроена определенная картина: Россия, Япония, Китай, обе Кореи и Америка. В России нет практически ничего, кроме хоррора, расчлененки, а еще, конечно, алкоголиков и сумасшедших. Но и в рассказе Джо Хилла ядерная война начинается не без участия России, поддерживающей Северную Корею.
И напоследок немного об идеологии номера. С точки зрения геополитики в нем выстроена определенная картина: Россия, Япония, Китай, обе Кореи и Америка. В России нет практически ничего, кроме хоррора, расчлененки, а еще, конечно, алкоголиков и сумасшедших. Но и в рассказе Джо Хилла ядерная война начинается не без участия России, поддерживающей Северную Корею.
Г. Юзефович. «Литературе сегодня непросто...» // Esquire. 2019. Август. С. 16.
Там же.
Г. Юзефович о Марии Галиной // Esquire. 2019. Август. С. 18.
Г. Юзефович. «Литературе сегодня непросто...» // Esquire. 2019. Август. С. 16.
Там же.
Г. Юзефович о Кадзуо Исигуро // Esquire. 2019. Август. С. 60.
Г. Юзефович. «Литературе сегодня непросто...» // Esquire. 2019. Август. С. 16.
Там же.
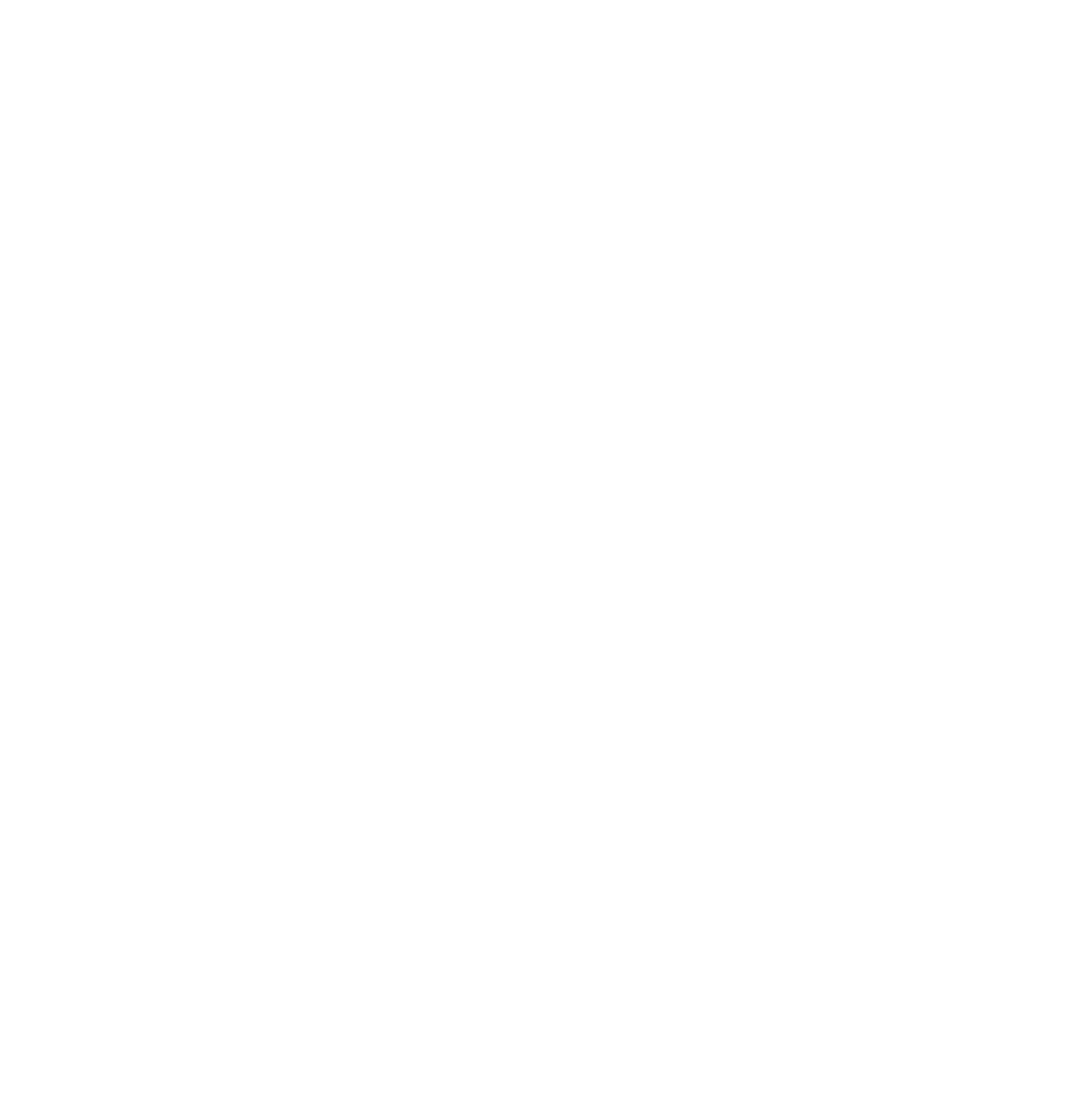
Константин Комаров
Читая современную русскую поэзию в довольно обширных объемах, я заметил на ее карте специфический островок (а скорее — бермудский треугольник), где обитают кисломолочные стихотворцы, которых можно обозначить как «концептуальных словоблудов». Их родовые черты — подчеркнутая конформность, пустотная гладкопись, завернутая в шершавую цветастую обертку, псевдоэкспериментаторство, утяжеленное посредственной нахватанностью в религио-, литературо- и всяком ином «лишьбыведении». В литсообществе представители этого слоя любят набросить на себя овечью шкуру ложной скромности или, на худой конец, прикинуться одомашненными волчатами. Особенно опасны эти персонажи тем, что, в отличие от «графоманов обыкновенных» с их сосенками, травушками, рыдающими в окопе солдатиками и Русью непобедимой — они маскируются умело, вовсю раскручивая маховик освоенной ими в юношеские годы примитивной версификации. Но видящий да увидит.
Формат нашей рубрики предусматривает емкость и лаконизм, поэтому я ограничусь одним показательным примером, не исключая, что в будущем разверну сей комплекс мыслей в полнометражное высказывание.
О Василии Бородине, успевшем к своим 37-ми годам стать лауреатом премий Андрея Белого, «Белла», «Московский счет», профессиональное сообщество неизменно отзывается с придыханием. В критике Бородин предстает как уникальное, удивительное явление и говорят о нем в интонациях, балансирующих между восхищением и умилением. Восхищение и умиление эти всегда казались мне малообоснованными.
Бородин предлагает нам довольно убогий эрзац фасеточного зрения и пытается убедить нас, что он видит действительность насквозь. Он хочет создать впечатление, что видит сквозь сам язык и дозревает в этом видении то ли до бога, то ли до Витгенштейна (хотя, забегая вперед, достает разве что до какого-нибудь Сен-Сенькова, а это дело нехитрое). Флер напущен грамотно, надо отдать должное, но что — в сухом остатке?
Возьмем стихотворение, являющееся «визитной карточкой» Бородина на сайте «Вавилон»:
О Василии Бородине, успевшем к своим 37-ми годам стать лауреатом премий Андрея Белого, «Белла», «Московский счет», профессиональное сообщество неизменно отзывается с придыханием. В критике Бородин предстает как уникальное, удивительное явление и говорят о нем в интонациях, балансирующих между восхищением и умилением. Восхищение и умиление эти всегда казались мне малообоснованными.
Бородин предлагает нам довольно убогий эрзац фасеточного зрения и пытается убедить нас, что он видит действительность насквозь. Он хочет создать впечатление, что видит сквозь сам язык и дозревает в этом видении то ли до бога, то ли до Витгенштейна (хотя, забегая вперед, достает разве что до какого-нибудь Сен-Сенькова, а это дело нехитрое). Флер напущен грамотно, надо отдать должное, но что — в сухом остатке?
Возьмем стихотворение, являющееся «визитной карточкой» Бородина на сайте «Вавилон»:
* * *
страшный король ворвется в угол
выйди кораблик стань и будь
режет и голый светом угол
вырви кораблик будь и пой
самое гордое страданье
видеть искусство сереть людьми
самое верное испытанье
видеть и стать и самим собой
роза исполненная и зломом
самое дело купить воров
соло на трупе и гастрономе
самая пыль собирать и кровь
утро карабкается под нами
суть и пороть и вертеть судьбе
самое радостное старанье
самое радостное тебе
страшный король ворвется в угол
выйди кораблик стань и будь
режет и голый светом угол
вырви кораблик будь и пой
самое гордое страданье
видеть искусство сереть людьми
самое верное испытанье
видеть и стать и самим собой
роза исполненная и зломом
самое дело купить воров
соло на трупе и гастрономе
самая пыль собирать и кровь
утро карабкается под нами
суть и пороть и вертеть судьбе
самое радостное старанье
самое радостное тебе
Отсутствие знаков препинания (и бравирование этим отсутствием) в текстах нынешних стихотворцев давно стало такой непроходимой пошлостью, что на нем и останавливаться не стоит. Однако Бородин «потоком сознания», который призван прикрыть и оправдать львиную долю псевдопоэтического бреда, не ограничивается. Ничем не оправданный замах чуть ли не на платоновский спотыкающийся, занозистый, исковерканный язык демонстрирует свою несостоятельность с порога. Попытка эта изначально нелепа в силу очевидной некачественности языкового материала. Бородин терпит закономерное поражение, останавливаясь на уровне известного школьного стишка для запоминания глаголов-исключений. Если бы Макар Девушкин с его «кочевряжащейся» речью (вспомним блестящий бахтинский анализ «Бедных людей») писал не только письма, но и стихи, то вероятно такие. Но Девушкин был искренен и простодушен, а языковое убожество Бородина ни на что большее, чем копеечное заигрывание с читателем не тянет. Это не текст, но пародия на текст, не говоря уже о поэзии. Не спасают ни тавтологические рифмы (Цветаева, например, рифмовала «снег-снег» гораздо убедительней), ни разномастное глагольное слововерчение, ни агрессивное разрушение синтаксиса. Ломать — не строить, Бородин выбрасывает изломанное на свалку, не возводя на образовавшейся пустоши ни новых смыслов, ни новой интонации. Аграмматизмы не становятся действенным приемом, оставаясь элементарными грамматическими ошибками, но отнюдь не теми, «без которых русской речи не любил» Пушкин — без таких, думаю, как раз любил.
Пастернак в свое время мог бы написать так: «И весь твой облик сложен из одного куска» и справедливо был бы раскритикован за безграмотность. И Пастернак пишет — «слажен». Поэтика же Бородина неизменно «сложена» из одного куска — эксплуатации безблагодатного сочленения сопротивляющихся, упирающихся слов. Перед нами с умным видом сакрализуется профанная до примитивизма стратегия, но сама «сакрализация» незаметна, ибо щедро обработана дешевой позолотой якобы свободного, а на деле — многократно изнасилованного речевого дыхания. Чугунные бабочки Бородина — как бы он ни пытался вдохнуть в них жизнь — к полету не способны a priori. Невинные поделки оборачиваются вполне себе «винными» подделками. Кто-то покупается и ухватывает здесь просветленность и вовлеченность в тайны созвучий, но нет — копни глубже и останешься один на один с ощущением тяжелой, вполне «головлевской» выморочности и обманутости. Это говорение вакуума внутри вакуума, интересное разве что вакууму. Пустота пустотная. Замкнутое на себя самоопыление.
Читая эти стихи, я неизменно вспоминаю замечательные слова Ольги Седаковой: «Поиск "оригинальности" представляется мне самым бесплодным, самым некрасивым — и самым далеким от своеобразия занятием. В современной цивилизации, где все стремится стать броским, бить в глаза, привлекать внимание, если что тривиально, то как раз желание "выделиться". Все самое своеобразное, что мне приходилось видеть, никогда в себе "оригинальности" не находило и, уж конечно, не искало. Необычность, "лица необщее выражение" — несомненно из тех вещей, которые сами собой прилагаются к чему-то более важному, более интимному. Если же такого важного, более важного для него, чем он сам, у человека нет, тогда и получается заурядность».
Навязчивое в своей иллюзорной ненавязчивости педалирование Бородиным уникальности своего поэтического зрения и говоренья оказывается бесплодным. Говорение это в силу своей тотальной имитационности, а в первую очередь — за полным отсутствием за стихами поэтической личности — предстает насквозь мертворожденным, пустопорожним, выкипающим в кастрюле псевдоэлитарного герметизма, как забытые на плите пельмени, стремительно теряющие всякую годность к употреблению. Бородина часто проводят по разряду «поэта для поэтов» (по известному хлебниковскому делению), в упор не замечая, что он — поэт ни для чего и ни для кого, ведро с дырявым дном, мюнгхаузеновская лошадь.
К сожалению, подобная аттракционность, выпендреж, ориентация на квазиценителей «высших материй» сегодня работает на ура, и общий уровень поэтического слова неуклонно понижается под слепым напором вольно и дурно интерпретируемой «контркультурности».
Читайте внимательней, коллеги, и старайтесь распознавать низкопробные графоманские понты даже там, где они с завидной искусностью мимикрируют под неповторимое поэтическое высказывание.
Пастернак в свое время мог бы написать так: «И весь твой облик сложен из одного куска» и справедливо был бы раскритикован за безграмотность. И Пастернак пишет — «слажен». Поэтика же Бородина неизменно «сложена» из одного куска — эксплуатации безблагодатного сочленения сопротивляющихся, упирающихся слов. Перед нами с умным видом сакрализуется профанная до примитивизма стратегия, но сама «сакрализация» незаметна, ибо щедро обработана дешевой позолотой якобы свободного, а на деле — многократно изнасилованного речевого дыхания. Чугунные бабочки Бородина — как бы он ни пытался вдохнуть в них жизнь — к полету не способны a priori. Невинные поделки оборачиваются вполне себе «винными» подделками. Кто-то покупается и ухватывает здесь просветленность и вовлеченность в тайны созвучий, но нет — копни глубже и останешься один на один с ощущением тяжелой, вполне «головлевской» выморочности и обманутости. Это говорение вакуума внутри вакуума, интересное разве что вакууму. Пустота пустотная. Замкнутое на себя самоопыление.
Читая эти стихи, я неизменно вспоминаю замечательные слова Ольги Седаковой: «Поиск "оригинальности" представляется мне самым бесплодным, самым некрасивым — и самым далеким от своеобразия занятием. В современной цивилизации, где все стремится стать броским, бить в глаза, привлекать внимание, если что тривиально, то как раз желание "выделиться". Все самое своеобразное, что мне приходилось видеть, никогда в себе "оригинальности" не находило и, уж конечно, не искало. Необычность, "лица необщее выражение" — несомненно из тех вещей, которые сами собой прилагаются к чему-то более важному, более интимному. Если же такого важного, более важного для него, чем он сам, у человека нет, тогда и получается заурядность».
Навязчивое в своей иллюзорной ненавязчивости педалирование Бородиным уникальности своего поэтического зрения и говоренья оказывается бесплодным. Говорение это в силу своей тотальной имитационности, а в первую очередь — за полным отсутствием за стихами поэтической личности — предстает насквозь мертворожденным, пустопорожним, выкипающим в кастрюле псевдоэлитарного герметизма, как забытые на плите пельмени, стремительно теряющие всякую годность к употреблению. Бородина часто проводят по разряду «поэта для поэтов» (по известному хлебниковскому делению), в упор не замечая, что он — поэт ни для чего и ни для кого, ведро с дырявым дном, мюнгхаузеновская лошадь.
К сожалению, подобная аттракционность, выпендреж, ориентация на квазиценителей «высших материй» сегодня работает на ура, и общий уровень поэтического слова неуклонно понижается под слепым напором вольно и дурно интерпретируемой «контркультурности».
Читайте внимательней, коллеги, и старайтесь распознавать низкопробные графоманские понты даже там, где они с завидной искусностью мимикрируют под неповторимое поэтическое высказывание.
О. Седакова, И. Кузнецова. Там тебе разрешается просто быть // Вопросы литературы. 1999. № 4.

Игорь Савельев
Каждое поколение считает, что «молодая литература» началась с него. И само понятие «поколение» в задушевном значении «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» можно впервые применить к нему, а не к издерганным удавшимися или не удавшимися амбициями, разобщенным старшим. В очередной раз я это послушал и уловил эту атмосферу практически «съезда победителей» на «профильном» круглом столе журнала «Знамя». Я не собирался на эту встречу в библиотеке Боголюбова, но, оказавшись в этот день в Москве, все же пришел посидеть где-нибудь на заднем ряду.
В последний год мне вообще удалось ненадолго войти в зал новой «молодой литературы» и посидеть на заднем ряду, чтобы понять, чем дышит это поколение и чем оно отличается от нас, дебютировавших в середине нулевых. Получив премию «Лицей», я не планировал это продолжать, но как-то так — слово за слово — получилось, что я побывал на нескольких форумах и семинарах, включая бывшие «Липки». Впечатления оказались богатые, и, конечно, было что сопоставить, вспоминая Липки настоящие (географически), семинары премии «Дебют» и много что еще из тех далеких времен.
Мы тоже считали, что «молодая литература» началась с нас. Но, кажется, на это были какие-то основания — хотя бы институционные. Все классические ныне формы бытования «молодой литературы», от форумов до премий, почти синхронно возникли в 2000—2001 годах. В какой-то давней статье или выступлении Валерия Пустовая мимоходом обронила что-то про «нефтяные деньги» как про возможное объяснение причин, и я сразу почувствовал: где-то здесь — рациональное зерно.
Новая «молодая литература», которая начинается в конце «десятых» (с такими же горящими глазами и шапкозакидательскими настроениями, с которыми когда-то выступали и мы), растет в других условиях. В том числе — экономических. Но, кстати, если «экономически» мы, «молодые писатели — 2005», были богаче, то «политически» богаче они, новые, нынешние. Внешним аккомпанементом наших выступлений с горящими глазами было сытое соглашательство, мода на аполитичность, нефтедолларовый цинизм и приспособленчество худшего пошиба. Их аккомпанемент совершенно иной, и Майя Кучерская не мимоходом отмечала в фейсбуке, когда проходило собеседование в ее магистратуру: «Мокрые каски омоновцев поблескивали под окнами. Наши студенты еще опишут все это в своих романах». Конечно, опишут. Для многих это и будет счастливой возможностью опереться на что-то существенное в начале пути. Наше поколение могло опереться в этом смысле только на студенистое безвременье в духе 70-х.
Об эстетической стороне говорить сложно: начинающий автор всегда больше изобретает велосипед, чем развивает традицию, но сейчас это меньше из-за моды на писательские школы. Их ругают, но, как к ним ни относись, сегодня «молодой писатель» более образован, потому что 10−15 лет назад «писательское» образование, представленное Литинститутом, казалось очень странным делом — с этим никто не хотел связываться. Писательские школы сегодня — это еще и про чтение, а может, и в первую очередь про чтение, и на этом фоне особенно заметно, что среди молодых писателей нулевых не было серьезного разговора про современную литературу, тем более — мировую. По крайней мере, системного знания — как «нормы поведения» — не было. Это было довольно варварское племя, которое чаще всего хотело читать только друг друга.
С точки зрения инфраструктуры, сегодня, конечно, очень чувствуется сужение диапазона возможностей. Любопытное исследование было в «Дружбе народов»: Евгений Абдуллаев чисто социологически сравнил контент толстых журналов 1997, 2009 и 2017 годов. С точки зрения открытости молодым авторам, журналы вернулись в 90-е. Средний возраст авторов прозаических публикаций к нулевым снизился с 52 до 35 лет, а к десятым вернулся на отметку 48 лет. Доля авторов до 30 лет в нулевые вырастала с 12% до 24%, но затем снова упала до 11%.
Новую политику того же «Знамени», редакция которого раньше заявляла: нет, у нас не будет «резерваций» для молодых, а теперь выпускает молодежные номера, — я связываю с исчезновением такой эйджистской, поколенческой площадки, как журнал «Октябрь». Думаю, это происходит само, как в организме: с удалением селезенки ее функции берет на себя костный мозг. Значит, организм литературы переживает непростые времена.
То, что сегодня проекты поддержки молодой литературы стали более технологически заточенными, только высвечивает более суровые условия. Тот же «Лицей», взяв за основу модель «Дебюта», сделал ее более прикладной с точки зрения, например, издательских интересов. «Дебют» был прекрасен, в том числе, своей максимально широкой ролью — например, ролью среды и «клуба» для авторов из регионов в эпоху до соцсетей; он был прекрасен и широтой диапазона возможностей, потому что авторы ни ограничивались ни по жанрам (множество самых разных номинаций), ни по объемам, ни по новизне текстов… «Лицей», вводя целый ряд формальных правил, порой ставит неискушенных творцов в тупик — своими документами, подписями, рамками по объемам, срокам выхода и т. д. — но он играет по правилам издательского рынка. Он говорит издателям: если текст в шорте, то он технологически вам точно подходит. Это не горстка коротких рассказов, или гигантская эпопея, или роман, уже опубликованный в позапрошлом году. «Дебют» из-за этого не парился вообще, ставя единственной целью дать миллион «главному таланту».
Но, боюсь, если мы вновь займемся сухой социологией, возьмем шорт-листы за три лицеевских года и отследим, что стало с каждым из текстов, то не увидим следов издательского ажиотажа. По крайней мере, в той степени, в которой он мог бы быть. И в какой он был бы, появись «Лицей» со своей технологической выверенностью даже не десять, а хотя бы пять лет тому назад.
Условия ужесточаются быстрее, чем инфраструктура литературы успевает под это подстраиваться.
Мы тоже считали, что «молодая литература» началась с нас. Но, кажется, на это были какие-то основания — хотя бы институционные. Все классические ныне формы бытования «молодой литературы», от форумов до премий, почти синхронно возникли в 2000—2001 годах. В какой-то давней статье или выступлении Валерия Пустовая мимоходом обронила что-то про «нефтяные деньги» как про возможное объяснение причин, и я сразу почувствовал: где-то здесь — рациональное зерно.
Новая «молодая литература», которая начинается в конце «десятых» (с такими же горящими глазами и шапкозакидательскими настроениями, с которыми когда-то выступали и мы), растет в других условиях. В том числе — экономических. Но, кстати, если «экономически» мы, «молодые писатели — 2005», были богаче, то «политически» богаче они, новые, нынешние. Внешним аккомпанементом наших выступлений с горящими глазами было сытое соглашательство, мода на аполитичность, нефтедолларовый цинизм и приспособленчество худшего пошиба. Их аккомпанемент совершенно иной, и Майя Кучерская не мимоходом отмечала в фейсбуке, когда проходило собеседование в ее магистратуру: «Мокрые каски омоновцев поблескивали под окнами. Наши студенты еще опишут все это в своих романах». Конечно, опишут. Для многих это и будет счастливой возможностью опереться на что-то существенное в начале пути. Наше поколение могло опереться в этом смысле только на студенистое безвременье в духе 70-х.
Об эстетической стороне говорить сложно: начинающий автор всегда больше изобретает велосипед, чем развивает традицию, но сейчас это меньше из-за моды на писательские школы. Их ругают, но, как к ним ни относись, сегодня «молодой писатель» более образован, потому что 10−15 лет назад «писательское» образование, представленное Литинститутом, казалось очень странным делом — с этим никто не хотел связываться. Писательские школы сегодня — это еще и про чтение, а может, и в первую очередь про чтение, и на этом фоне особенно заметно, что среди молодых писателей нулевых не было серьезного разговора про современную литературу, тем более — мировую. По крайней мере, системного знания — как «нормы поведения» — не было. Это было довольно варварское племя, которое чаще всего хотело читать только друг друга.
С точки зрения инфраструктуры, сегодня, конечно, очень чувствуется сужение диапазона возможностей. Любопытное исследование было в «Дружбе народов»: Евгений Абдуллаев чисто социологически сравнил контент толстых журналов 1997, 2009 и 2017 годов. С точки зрения открытости молодым авторам, журналы вернулись в 90-е. Средний возраст авторов прозаических публикаций к нулевым снизился с 52 до 35 лет, а к десятым вернулся на отметку 48 лет. Доля авторов до 30 лет в нулевые вырастала с 12% до 24%, но затем снова упала до 11%.
Новую политику того же «Знамени», редакция которого раньше заявляла: нет, у нас не будет «резерваций» для молодых, а теперь выпускает молодежные номера, — я связываю с исчезновением такой эйджистской, поколенческой площадки, как журнал «Октябрь». Думаю, это происходит само, как в организме: с удалением селезенки ее функции берет на себя костный мозг. Значит, организм литературы переживает непростые времена.
То, что сегодня проекты поддержки молодой литературы стали более технологически заточенными, только высвечивает более суровые условия. Тот же «Лицей», взяв за основу модель «Дебюта», сделал ее более прикладной с точки зрения, например, издательских интересов. «Дебют» был прекрасен, в том числе, своей максимально широкой ролью — например, ролью среды и «клуба» для авторов из регионов в эпоху до соцсетей; он был прекрасен и широтой диапазона возможностей, потому что авторы ни ограничивались ни по жанрам (множество самых разных номинаций), ни по объемам, ни по новизне текстов… «Лицей», вводя целый ряд формальных правил, порой ставит неискушенных творцов в тупик — своими документами, подписями, рамками по объемам, срокам выхода и т. д. — но он играет по правилам издательского рынка. Он говорит издателям: если текст в шорте, то он технологически вам точно подходит. Это не горстка коротких рассказов, или гигантская эпопея, или роман, уже опубликованный в позапрошлом году. «Дебют» из-за этого не парился вообще, ставя единственной целью дать миллион «главному таланту».
Но, боюсь, если мы вновь займемся сухой социологией, возьмем шорт-листы за три лицеевских года и отследим, что стало с каждым из текстов, то не увидим следов издательского ажиотажа. По крайней мере, в той степени, в которой он мог бы быть. И в какой он был бы, появись «Лицей» со своей технологической выверенностью даже не десять, а хотя бы пять лет тому назад.
Условия ужесточаются быстрее, чем инфраструктура литературы успевает под это подстраиваться.
2018. № 8.
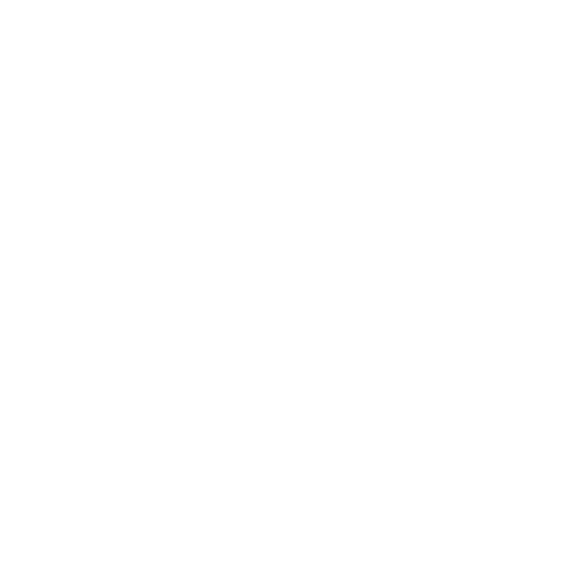
Евгений Абдуллаев
Нас успокаивают, и мы себя успокаиваем, а революция, тем не менее, происходит.
Пока — только в книгоиздании.
Но она, как показывает история, всегда происходит сначала в книгоиздании. Сначала замена книги-свитка книгой-кодексом — следом распространение и победа христианства (христианские проповедники быстро оценили удобство книги в виде тетрадки). Переход от рукописной книги к печатной — следом Реформация (лютеране активно пользовались печатным станком). Изобретение в начале ХХ века офсетной печати, позволявшей резко увеличить тиражи, — череда революций…
В последние четверть века в книгопечатании произошли даже две революции. Первая — распространение лазерной печати. И вторая, буквально следом, — развитие цифрового книгоиздания.
Пока — только в книгоиздании.
Но она, как показывает история, всегда происходит сначала в книгоиздании. Сначала замена книги-свитка книгой-кодексом — следом распространение и победа христианства (христианские проповедники быстро оценили удобство книги в виде тетрадки). Переход от рукописной книги к печатной — следом Реформация (лютеране активно пользовались печатным станком). Изобретение в начале ХХ века офсетной печати, позволявшей резко увеличить тиражи, — череда революций…
В последние четверть века в книгопечатании произошли даже две революции. Первая — распространение лазерной печати. И вторая, буквально следом, — развитие цифрового книгоиздания.
Об идеологических последствиях пусть задумываются социологи и футурологи. Для этой небольшой заметки достаточно указать на литературные. Прежде всего, касающиеся распространения электронных книг, или э-книг (e-books), как их все чаще называют.
Их читают все больше. Рынок э-книг, возникший, казалось бы, совсем недавно, уже превысил шесть процентов всего книжного рынка России (в США — порядка двадцати). И сохраняет тенденцию к росту.
С другой стороны, литературный статус э-книги остается сомнительным. Речь не идет об электронной версии книги, вышедшей в «бумажном» виде — в издательстве и/или журнале с устоявшейся репутацией. Речь о книгах, существующими исключительно в электронном виде.
Их читают все больше. Рынок э-книг, возникший, казалось бы, совсем недавно, уже превысил шесть процентов всего книжного рынка России (в США — порядка двадцати). И сохраняет тенденцию к росту.
С другой стороны, литературный статус э-книги остается сомнительным. Речь не идет об электронной версии книги, вышедшей в «бумажном» виде — в издательстве и/или журнале с устоявшейся репутацией. Речь о книгах, существующими исключительно в электронном виде.
В «большую» литературу их пока не пускают, даже с черного входа.
Ни в одном толстом журнале не рецензируют.
Ни на одну крупную премию не принимают.
Ни в одном толстом журнале не рецензируют.
Ни на одну крупную премию не принимают.
Помню, как в 2014 году на Букер была номинирован — в виде э-книги — роман Елены Колядиной «Под мостом из карамели». Писательница прислала в жюри прочувствованное письмо: после участия в эко-протестах против строительства целлюлозного комбината в родной Череповецкой области она отказывается от выхода своих книг в «бумажном» формате. Гражданскую позицию автора жюри оценило, однако книгу все равно не пропустило… Возник вопрос об э-книгах и в 2017 году, на объявлении букеровского «длинного списка». Но дальше дискуссий дело не двинулось.
Проблема не в носителе: просто в пространстве э-книг пока не отрегулированы те механизмы отбора и редактирования, какие десятилетиями (а то и столетиями) складывались в сфере бумажного книгоиздания, особенно, в его «высоком» сегменте. Пусть сегодня эти механизмы работают все хуже; пусть книга, хорошо вычитанная, качественно отредактированная и грамотно сверстанная, становится, похоже, библиографической редкостью. Так что впору учреждать литпремии для литературных редакторов и корректоров, пока эти профессии еще не исчезли. Все это так. И все же — отбор и работа с текстом в «бумажном» книгоиздании еще сохраняется, и, соответственно, сохраняется и более солидная «репутация» печатной книги.
И «цифровой» рынок начинает подражать «бумажному».
Первой подсуетилась proza.ru, запустив в 2011-м для многотысячной армии своих авторов конкурс «Писатель года». Со своим (видимо, по аналогии с жюри «Большой книги») «Большим жюри». Я даже входил в него в 2012-м — вместе с Битовым, Воденниковым, Шаргуновым, Ксенией Собчак и другими уважаемыми людьми. Попадались и вполне прилично написанные тексты — но в целом премия так и осталась маргинальной. Достаточно проглядеть списки лауреатов за восемь лет: фактом «большой» литературы ни одно имя, увы, не стало.
Но сама идея конкурсного отбора среди э-авторов может быть и вполне продуктивной. При менее «бизнес-ориентированном» и более «литературно-ориентированном» подходе, разумеется.
В 2017 году «Amazon UK» учредил для «цифровых» авторов премию «Kindle Storyteller Prize». С солидным призовым фондом — победитель получает 20 тысяч фунтов стерлингов (для сравнения: фонд второй по значимости, после «Британского Букера», британской премии Коста составляет 30 тысяч фунтов). Плюс рекламная компания по продвижению книги-победителя. Лауреатом первого сезона стал Дэвид Лидбитер (David Leadbeater), пишущий в жанре фентези.
Похоже, примеру британского «Амазона» решил последовать крупнейший российский мегамаркет э-книг «ЛитРес». В прошлом году он переформатировал свою премию «Электронная буква», которая до этого вручалась уже известным авторам — лидерами электронных продаж. С прошлого года целью премии, как сообщается на ее сайте (ebukva.litres.ru), стала «поддержка начинающих авторов». «Цифровых», иными словами.
Отличие «Буквы» от британского аналога — в отсутствии призового фонда, а сходство — в обещанной рекламной компании: «главным призом является продвижение книг-лауреатов на всех ресурсах группы компаний "ЛитРес"». Что ж, и это хорошо.
Впечатления (как одного из экспертов премии) гораздо более отрадные, чем семь лет назад в жюри «Писателя года». Или средний уровень пишущих повысился, или сработали жестко прописанные правила подачи текстов. Из двадцати пяти текстов, которые получил на прочтение, лишь два-три были откровенно любительскими; еще пара не проходила по формату (не худлит). В итоге отобрал семь — почти треть, что довольно много. Почти все эти тексты вполне могу представить в виде публикаций в толстых журналах или бумажных книг в крупных издательствах. Авторов не называю — когда пишу это, еще даже не объявлен «Длинный список»… Да и какие-то выводы делать о самой премии рановато.
В любом случае, одних премий, построенных по принципу авторитетных премий для «бумажных» книг, не достаточно. Вместе с серьезными премиальными институтами в сфере э-книгоиздания должны возникнуть свои — опять-таки, серьезные — институты редактуры и литкритики. Последние пока находятся в зачаточном состоянии: вроде стихийного читательского рецензирования на книгопродажных сайтах. Впрочем, эффективнее, думаю, было бы не создавать в э-книгоиздании параллельные экспертные структуры, а попробовать интегрироваться в уже существующие в «бумажном». Пойдут ли э-издатели по этому пути? Получится ли это? Будущее покажет.
Проблема не в носителе: просто в пространстве э-книг пока не отрегулированы те механизмы отбора и редактирования, какие десятилетиями (а то и столетиями) складывались в сфере бумажного книгоиздания, особенно, в его «высоком» сегменте. Пусть сегодня эти механизмы работают все хуже; пусть книга, хорошо вычитанная, качественно отредактированная и грамотно сверстанная, становится, похоже, библиографической редкостью. Так что впору учреждать литпремии для литературных редакторов и корректоров, пока эти профессии еще не исчезли. Все это так. И все же — отбор и работа с текстом в «бумажном» книгоиздании еще сохраняется, и, соответственно, сохраняется и более солидная «репутация» печатной книги.
И «цифровой» рынок начинает подражать «бумажному».
Первой подсуетилась proza.ru, запустив в 2011-м для многотысячной армии своих авторов конкурс «Писатель года». Со своим (видимо, по аналогии с жюри «Большой книги») «Большим жюри». Я даже входил в него в 2012-м — вместе с Битовым, Воденниковым, Шаргуновым, Ксенией Собчак и другими уважаемыми людьми. Попадались и вполне прилично написанные тексты — но в целом премия так и осталась маргинальной. Достаточно проглядеть списки лауреатов за восемь лет: фактом «большой» литературы ни одно имя, увы, не стало.
Но сама идея конкурсного отбора среди э-авторов может быть и вполне продуктивной. При менее «бизнес-ориентированном» и более «литературно-ориентированном» подходе, разумеется.
В 2017 году «Amazon UK» учредил для «цифровых» авторов премию «Kindle Storyteller Prize». С солидным призовым фондом — победитель получает 20 тысяч фунтов стерлингов (для сравнения: фонд второй по значимости, после «Британского Букера», британской премии Коста составляет 30 тысяч фунтов). Плюс рекламная компания по продвижению книги-победителя. Лауреатом первого сезона стал Дэвид Лидбитер (David Leadbeater), пишущий в жанре фентези.
Похоже, примеру британского «Амазона» решил последовать крупнейший российский мегамаркет э-книг «ЛитРес». В прошлом году он переформатировал свою премию «Электронная буква», которая до этого вручалась уже известным авторам — лидерами электронных продаж. С прошлого года целью премии, как сообщается на ее сайте (ebukva.litres.ru), стала «поддержка начинающих авторов». «Цифровых», иными словами.
Отличие «Буквы» от британского аналога — в отсутствии призового фонда, а сходство — в обещанной рекламной компании: «главным призом является продвижение книг-лауреатов на всех ресурсах группы компаний "ЛитРес"». Что ж, и это хорошо.
Впечатления (как одного из экспертов премии) гораздо более отрадные, чем семь лет назад в жюри «Писателя года». Или средний уровень пишущих повысился, или сработали жестко прописанные правила подачи текстов. Из двадцати пяти текстов, которые получил на прочтение, лишь два-три были откровенно любительскими; еще пара не проходила по формату (не худлит). В итоге отобрал семь — почти треть, что довольно много. Почти все эти тексты вполне могу представить в виде публикаций в толстых журналах или бумажных книг в крупных издательствах. Авторов не называю — когда пишу это, еще даже не объявлен «Длинный список»… Да и какие-то выводы делать о самой премии рановато.
В любом случае, одних премий, построенных по принципу авторитетных премий для «бумажных» книг, не достаточно. Вместе с серьезными премиальными институтами в сфере э-книгоиздания должны возникнуть свои — опять-таки, серьезные — институты редактуры и литкритики. Последние пока находятся в зачаточном состоянии: вроде стихийного читательского рецензирования на книгопродажных сайтах. Впрочем, эффективнее, думаю, было бы не создавать в э-книгоиздании параллельные экспертные структуры, а попробовать интегрироваться в уже существующие в «бумажном». Пойдут ли э-издатели по этому пути? Получится ли это? Будущее покажет.
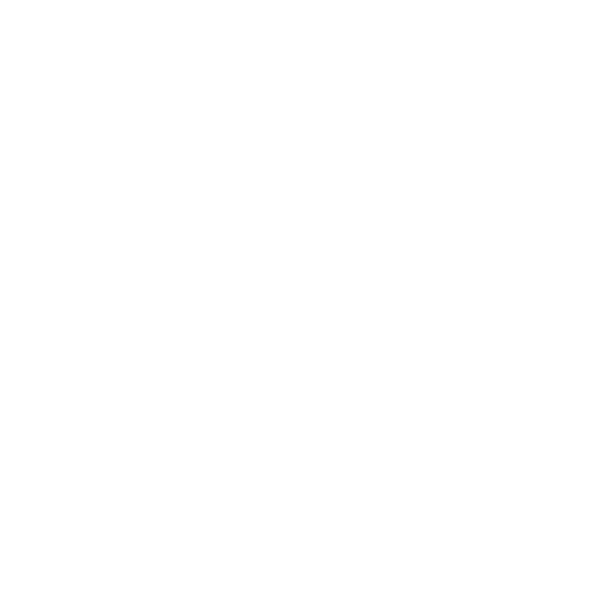
Екатерина Иванова
«Какова цена лжи?» — задается вопросом Валерий Легасов. Не настоящий, а тот, который из американского сериала «Чернобыль». Настоящий Валерий Легасов ничего такого, конечно, не говорил и не писал, расшифровки его кассет опубликованы… Но. Я сейчас написала «Валерий Легасов» и не стала давать никаких пояснений, насчет того, что он был ликвидатором, ученым, сотрудником Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, героем.
Ничего этого теперь не нужно объяснять, а три месяца назад мне пришлось бы давать развернутую биографическую справку.
Ничего этого теперь не нужно объяснять, а три месяца назад мне пришлось бы давать развернутую биографическую справку.
Все знают, кто такой Валерий Легасов, потому что про него сняли кино, полухудожественное, полудокументальное — о цене лжи. Искажений фактов в нем много, все и не перечислишь. Причем искажения касаются ключевых моментов, скажем, причины аварии и действий персонала станции — Анатолия Дятлова, Александра Акимова, Леонида Топтунова — непосредственно до и после катастрофы. Яркая, красочная, талантливо снятая как бы документальная иллюстрация к событиям той страшной ночи не имеет вообще никакого отношения, и это не предмет дискуссии. Это факт: последовательность действий персонала на большом щите управления в ту страшную ночь известна в деталях и чуть ли не посекундно, благодаря судебному разбирательству. Дятлов не матюгался, ни с кем не спорил, не бросался папками, не посылал на три буквы уже погибшего на тот момент Ходемчука, а, наоборот, организовал группу поиска и сам пошел искать его по завалам, хватая лишние дозы радиации. Но какая разница? Кому из зрителей рейтингового сериала вообще есть дело до какого-то Дятлова, который то ли преступник, то ли нет? Кто теперь разберет? Кому, кроме родственников оболганного человека и редких энтузиастов, есть до него дело?
Сериал-то хороший? Хороший! Более того, сериал выполнил очень важную функцию: создал в общественном сознании художественный образ того ужасного события, поместил его на карту народной памяти — куда-то рядом с полетом в космос, победой в Великой Отечественной, гласностью и перестройкой. Теперь, когда событие обрело некие контуры, пусть и размытые, желающие могут забить в поиск слово «Чернобыль» и на них обрушится вал информации: документы, книги, воспоминания очевидцев, того же Дятлова, автора потрясающей книги «Чернобыль. Как это было».
Анатолий Дятлов тонко чувствует драматургию текста и драматургию собственной жизни. Он интуитивно понимает, в какой момент прервать рассказ о той самой кнопке, из-за которой произошел взрыв, и начать рассказывать о себе. Примерно половина книги — это отчаянная попытка донести до неспециалистов, что же пошло не так 26 апреля 1986 года. Пустое. Неспециалист все равно не поймет и будет верить в то, во что ему хочется верить. Но есть и вторая половина, она гораздо ценнее. Это рассказ об экзистенциальном опыте переживания катастрофы, изложенный не профессиональным писателем, но человеком, несомненно, литературно одаренным, чутким — уникальный опыт проживания личной трагедии. Ты никого не спас, ничего не доказал, дело твоей жизни — мирный атом, обернулось ужасающей катастрофой. Жизнь прошла впустую. Стоит ли ее продолжать? Вот бы экранизировать эту книгу, да куда там! Отечественные сериальщики уже анонсировали выход «нашего ответа» HBO, в котором задействованы американские спецслужбы.
В сети в свободном доступе лежит документальный фильм Роллана Сергиенко «Колокол Чернобыля», в котором показан один из самых ярких и страшных моментов серила: «биороботы» (то есть солдаты срочной службы) сбрасывают радиоактивный графит с крыши. Этот подвиг был снят на пленку в реальном времени! И все это всегда было доступно любому желающему. Вот только желающих было немного. Историки-профессионалы и те, кого реально коснулось смертельное дыхание «мирного» атома.
Можно посетовать на то, что мы ленивы и не любопытны. А можно подумать о роли искусства, в том числе и «важнейшего из…» в культурной жизни общества. Нет у нас, ни у общества в целом, ни у каждого конкретного человека, другого способа объяснить себе самого себя кроме известного еще с доисторических времен: на языке художественных образов.
Вымысел не есть обман? Вот только почему обман получается не «возвышающий», а уничижающий? Почему реальная история оказывается куда возвышеннее и человечнее?
И если искусство, немыслимое без обмана, рассказывает нам про нас, есть ли у общества шанс построить правдивую картину собственной духовной истории, а не очередную сказку о «комиссарах в пыльных шлемах»?
Так какова цена вымысла? Можно ли без него обойтись, и если нельзя, то как сделать его менее «радиоактивным»? Честное слово, я не знаю ответа на этот вопрос. А вы?
Сериал-то хороший? Хороший! Более того, сериал выполнил очень важную функцию: создал в общественном сознании художественный образ того ужасного события, поместил его на карту народной памяти — куда-то рядом с полетом в космос, победой в Великой Отечественной, гласностью и перестройкой. Теперь, когда событие обрело некие контуры, пусть и размытые, желающие могут забить в поиск слово «Чернобыль» и на них обрушится вал информации: документы, книги, воспоминания очевидцев, того же Дятлова, автора потрясающей книги «Чернобыль. Как это было».
Анатолий Дятлов тонко чувствует драматургию текста и драматургию собственной жизни. Он интуитивно понимает, в какой момент прервать рассказ о той самой кнопке, из-за которой произошел взрыв, и начать рассказывать о себе. Примерно половина книги — это отчаянная попытка донести до неспециалистов, что же пошло не так 26 апреля 1986 года. Пустое. Неспециалист все равно не поймет и будет верить в то, во что ему хочется верить. Но есть и вторая половина, она гораздо ценнее. Это рассказ об экзистенциальном опыте переживания катастрофы, изложенный не профессиональным писателем, но человеком, несомненно, литературно одаренным, чутким — уникальный опыт проживания личной трагедии. Ты никого не спас, ничего не доказал, дело твоей жизни — мирный атом, обернулось ужасающей катастрофой. Жизнь прошла впустую. Стоит ли ее продолжать? Вот бы экранизировать эту книгу, да куда там! Отечественные сериальщики уже анонсировали выход «нашего ответа» HBO, в котором задействованы американские спецслужбы.
В сети в свободном доступе лежит документальный фильм Роллана Сергиенко «Колокол Чернобыля», в котором показан один из самых ярких и страшных моментов серила: «биороботы» (то есть солдаты срочной службы) сбрасывают радиоактивный графит с крыши. Этот подвиг был снят на пленку в реальном времени! И все это всегда было доступно любому желающему. Вот только желающих было немного. Историки-профессионалы и те, кого реально коснулось смертельное дыхание «мирного» атома.
Можно посетовать на то, что мы ленивы и не любопытны. А можно подумать о роли искусства, в том числе и «важнейшего из…» в культурной жизни общества. Нет у нас, ни у общества в целом, ни у каждого конкретного человека, другого способа объяснить себе самого себя кроме известного еще с доисторических времен: на языке художественных образов.
Вымысел не есть обман? Вот только почему обман получается не «возвышающий», а уничижающий? Почему реальная история оказывается куда возвышеннее и человечнее?
И если искусство, немыслимое без обмана, рассказывает нам про нас, есть ли у общества шанс построить правдивую картину собственной духовной истории, а не очередную сказку о «комиссарах в пыльных шлемах»?
Так какова цена вымысла? Можно ли без него обойтись, и если нельзя, то как сделать его менее «радиоактивным»? Честное слово, я не знаю ответа на этот вопрос. А вы?
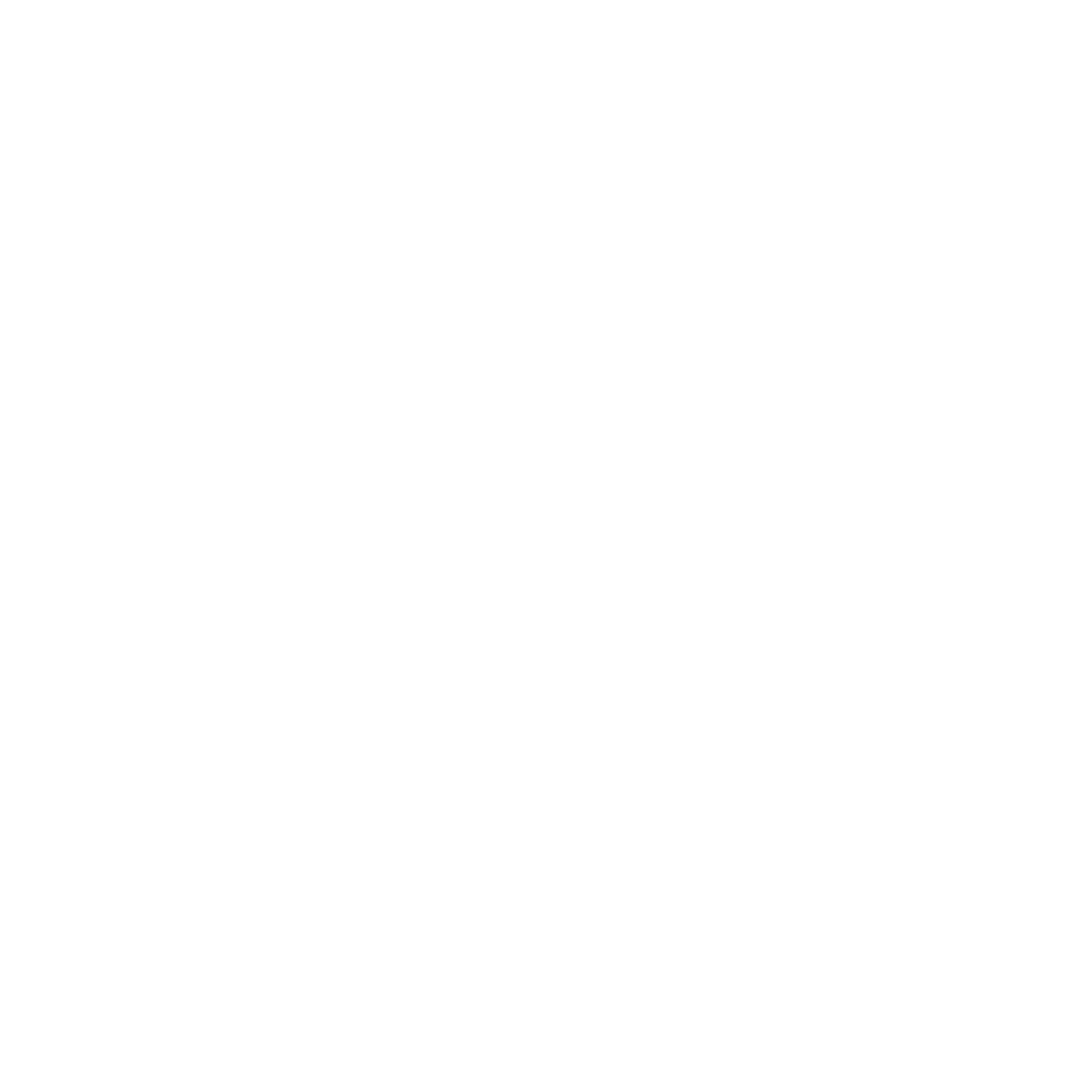
Санджар Янышев
Язык кино меняется гораздо быстрее, нежели язык литературы. Иная знаковая система, более подвижная — почти как искусство моды. Он не столько рассказывает, сколько показывает. Не столько говорит, сколько проговаривается. И вот эти «проговорки» — самое интересное. Например, в фильме «Дорога к морю» (1965) героиня требует от влюбленного парня, чтоб он «улепетывал В ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА». Была такая формулировка для переселяемых народов времен раннего социализма — и звучала подчас очень страшно. К ней же прибегает один из героев картины П. Тодоровского «Военно-полевой роман», выставляя со своей жилплощади устоявшую перед его обаянием жиличку.
Зачем пересматривать старые фильмы? Если классика — понятно. Но и советская НЕклассика бесценна. Не в качестве произведения киноискусства — так в виде исторического свидетельства. И речь не только о вещном мире: как, скажем, выглядели москвичи, ленинградцы, а заодно их мебель (помните? «…польский гарнитур, 830 рублей… — И 20 сверху! — Я дал 25»)… Любопытно, когда произведение, созданное в одну эпоху, экранизируется в другую. Кинематографический «текст» может не совпадать не только с текстом литературным, но и с «текстом» другой экранизации.
В моем детстве была прекрасная картина «Каникулы Кроша» (1980, режиссер Г. Аронов). Герой фильма Сережа Крашенинников и мальчик из первой кинопостановки о «приключениях Кроша» (1962) — два СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА. Случай интересен еще и тем, что сценарий для обеих экранизаций писал сам Анатолий Рыбаков, автор популярных в 60-е книжек о Кроше.
Крош из постановки 1962 года похож и на своего primus ego из печатной трилогии и на множество других героев-шестидесятников, «строителей коммунизма», для которых газетные лозунги и заголовки еще исполнены высокого смысла. Сложно представить, например, что фразу «Неужели он останется равнодушным к судьбе своего товарища?» говорит Крош из «Каникул» (непредставимый в 60-х актер Василий Фунтиков!). Или такое рассуждение: «Может, он просто оступился… Ведь пишут же в газетах, что нужно помогать тем, кто оступился? Пишут!»… Действие «Приключений» происходит на автобазе. Школьники-практиканты, включая Кроша, — это «подрастающая смена рабочего класса». Таков тренд эпохи. Таковы и герои главного киноманифеста начала 60-х «Я шагаю по Москве» (1963): шахтер-метростроевец, строитель-монтажник, написавший во время гриппа рассказ «о хороших людях», и герои картины «Застава Ильича» (1964). Интеллигенция как вид пока отсутствует. Есть ученые-ядерщики, есть писатели, скульпторы, но это скорее функции — язык описания группы еще не выработался.
Крош «Каникул» — интеллигент, сын интеллигентов. В фильме 1980 года вообще все взрослые относятся к этой социальной «прослойке». Семидесятые — их время. (Главные фильмы Э. Рязанова тоже об этом.) Родовая черта советского интеллигента — не только врожденная порядочность, но и мнительность, рефлексивность; не столько дело, сколько слово, точнее — слова. Если в повести 1966 года Крош заявляет, что «в наш век автомобиль то же самое, что в прошлом веке велосипед», это его УБЕЖДЕНИЕ — и поэтому факт про автомобиль звучит трижды. В картине 1980 года это не «факт», а повод поговорить самому и «раскачать» собеседника, развернуть не спор, так полемику. Поэтому все «внутренние» мысли Кроша превращаются в фильме в прямую речь.
И главное отличие. Крош «Приключений» борется с ложью и несправедливостью, потому что он хороший человек (в стадии закалки и мужания). Крош из фильма Аронова сражается с мнимостью, мимикрирующей под сущее. Чувствуете разницу? Мнимость разглядеть труднее — для этого нужен более сложный аппарат; чтоб ее почувствовать в другом, человек должен выявить ее сначала в себе. Локализовать — и выжечь. Ключевые принципы героя формируются на наших глазах: демагог и фантазер научается видеть за красивыми высокими фразами пустоту, а за явленным добросердечием — подлинное зло. («Спеши делать добро!» — повторяет «совет Гете» антагонист героя Веэн Лесников.) Здесь не любовь сражается с ненавистью, а из первого, словно при помощи химической реакции, выделяется второе.
В моем детстве была прекрасная картина «Каникулы Кроша» (1980, режиссер Г. Аронов). Герой фильма Сережа Крашенинников и мальчик из первой кинопостановки о «приключениях Кроша» (1962) — два СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА. Случай интересен еще и тем, что сценарий для обеих экранизаций писал сам Анатолий Рыбаков, автор популярных в 60-е книжек о Кроше.
Крош из постановки 1962 года похож и на своего primus ego из печатной трилогии и на множество других героев-шестидесятников, «строителей коммунизма», для которых газетные лозунги и заголовки еще исполнены высокого смысла. Сложно представить, например, что фразу «Неужели он останется равнодушным к судьбе своего товарища?» говорит Крош из «Каникул» (непредставимый в 60-х актер Василий Фунтиков!). Или такое рассуждение: «Может, он просто оступился… Ведь пишут же в газетах, что нужно помогать тем, кто оступился? Пишут!»… Действие «Приключений» происходит на автобазе. Школьники-практиканты, включая Кроша, — это «подрастающая смена рабочего класса». Таков тренд эпохи. Таковы и герои главного киноманифеста начала 60-х «Я шагаю по Москве» (1963): шахтер-метростроевец, строитель-монтажник, написавший во время гриппа рассказ «о хороших людях», и герои картины «Застава Ильича» (1964). Интеллигенция как вид пока отсутствует. Есть ученые-ядерщики, есть писатели, скульпторы, но это скорее функции — язык описания группы еще не выработался.
Крош «Каникул» — интеллигент, сын интеллигентов. В фильме 1980 года вообще все взрослые относятся к этой социальной «прослойке». Семидесятые — их время. (Главные фильмы Э. Рязанова тоже об этом.) Родовая черта советского интеллигента — не только врожденная порядочность, но и мнительность, рефлексивность; не столько дело, сколько слово, точнее — слова. Если в повести 1966 года Крош заявляет, что «в наш век автомобиль то же самое, что в прошлом веке велосипед», это его УБЕЖДЕНИЕ — и поэтому факт про автомобиль звучит трижды. В картине 1980 года это не «факт», а повод поговорить самому и «раскачать» собеседника, развернуть не спор, так полемику. Поэтому все «внутренние» мысли Кроша превращаются в фильме в прямую речь.
И главное отличие. Крош «Приключений» борется с ложью и несправедливостью, потому что он хороший человек (в стадии закалки и мужания). Крош из фильма Аронова сражается с мнимостью, мимикрирующей под сущее. Чувствуете разницу? Мнимость разглядеть труднее — для этого нужен более сложный аппарат; чтоб ее почувствовать в другом, человек должен выявить ее сначала в себе. Локализовать — и выжечь. Ключевые принципы героя формируются на наших глазах: демагог и фантазер научается видеть за красивыми высокими фразами пустоту, а за явленным добросердечием — подлинное зло. («Спеши делать добро!» — повторяет «совет Гете» антагонист героя Веэн Лесников.) Здесь не любовь сражается с ненавистью, а из первого, словно при помощи химической реакции, выделяется второе.
А это ведь главная черта того времени: лозунги прежние («правильные» в своей риторике) — однако отношение к ним принципиально иное: «Я чувствовал, будет одна говорильня, а я ее с детства ненавижу!» («Влюблен по собственному желанию», 1982).
Приведу еще пример: гайдаровская повесть «Судьба барабанщика» (1938), во многих смыслах предтеча «Каникул Кроша», которую Андрей Битов однажды назвал «лучшим русским романом XX века».
Какая связь с повестью Рыбакова? Героя тоже зовут Сережа. Время действия обеих повестей — летние каникулы. И там, и тут враг умело камуфлируется высокими фразами: на месте Гете у Гайдара пафос новейших советских идиом из сформировавшегося к середине 30-х «текста» советской пропаганды, в том числе песенно-поэтической: тут тебе и «грохот канонады» из стихотворения Михаила Светлова о юном барабанщике (1930), и «орлята» из знаменитой песни Я. Шведова и В. Белого (1936) о герое Гражданской войны, принявшем мученическую смерть «в шестнадцать мальчишеских лет», и «светлое будущее», и «капля крови», пролитая за революцию.
В обеих повестях враг становится на место отца героя (уехавшего или арестованного), учит доверчивого мальчика своему ремеслу, а при случае отправляет шпионить: в семью военного инженера в «Барабанщике», к хорошему художнику Краснухину в «Каникулах». Есть еще ряд совпадений, причем у экранизаций их даже больше, чем у повестей. Например, приятель Кроша Петр Шмаков из «Каникул» 1980 года исполняет отчасти ту же функцию, что и жулик Юрка в поздней киноверсии «Барабанщика» (1976, режиссер А. Игишев): раскручивает героя на деньги, а перед этим составляет план экономии с суповыми пакетиками и плавлеными сырками.
Самый интересный персонаж в «Судьбе барабанщика» — лже-дядя, бывший дворянин, белогвардеец (то есть русский интеллигент еще в прежнем, дореволюционном, понимании), обаятельный мерзавец, мастер демагогии, трикстер. Будто джин из сказки, вышедшей в том же 1938 году, этот оборотень забалтывает реальность, взбивает ее, как гоголь-моголь, который он с удовольствием поглощает в трехсерийной экранизации 1976 года: «Чкалов!.. Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Ты не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром».
Его речь можно сравнить с им же помянутыми «апартаментами уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев». В обеих существующих экранизациях она сохраняет смак оригинального текста — только вот аромат принципиально иной.
В первой (1955, режиссер В. Эйсымонт) «дядю» играет Виктор Хохряков. Его персонаж, как директор треста пищевой промышленности Андрей Бабичев из «Зависти» (1927), — человек кипучей деятельности и социального оптимизма. Это переработанный продукт эпохи, в нем нет (то есть не осталось) ничего от дворянского происхождения и «старого буржуазного мира». Он природный весельчак (хочется добавить: «У»), балагур — именно этим качествам он обязан своей пересыпанной штампами речью. Он жонглирует готовыми формулами так, словно любуется ими и всерьез верит в их немеркнущую красоту и неиссякаемую силу.
«Дядя» Владимира Самойлова из постановки 1976 года — человек, утративший многое (и на это место поместивший комбинации поэтических лозунгов и песенных формул), но сохранивший глубоко внутри «белую кость» и «голубую кровь». «Эх, — вздохнул дядя, — кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня…». Он в некотором роде сам — поэт. Великий комбинатор. И гайдаровский барабанщик о чем-то таком догадывается: «…если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена». Самойлов гениально сыграл вот эту раздвоенность: каждая его фраза — это глубоко (а иногда не очень глубоко) запрятанная ирония. По сути он — пересмешник, компилятор, постмодернист. Он чувствует изнанку явлений и показывает детям брежневского застоя, как легко и весело можно переживать времена, когда от слова остается одна сухая, точно палый лист, оболочка.
Зачем пересматривать старые фильмы?.. Мне кажется, пришло время для новой экранизации бессмертной повести Гайдара. Действие будет перенесено в наши дни. Сотрудники ФСБ возникнут в первой же сцене — в виде «наружки». Доблестные чекисты будут следить за таинственным «дядей» — сотрудником «нежелательной в России организации», учрежденной в пору гайдаро-чубайсовской приватизации, в «проклятые 90-е». В сквере, в разговоре с сотрудником «Мемориала» стариком Яковом «дядя», по примеру Парвуса в недавнем сериале «Троцкий», обязательно ввернет про «лодку», которую «мы еще только начали раскачивать», и в этот момент сын воюющего в Сирии подполковника ВС РФ действительный член МГЕР Сережа Щербачов щелкнет «затвором» приобретенного у киргизского гастарбайтера Юрки бэушного айфона.
Какая связь с повестью Рыбакова? Героя тоже зовут Сережа. Время действия обеих повестей — летние каникулы. И там, и тут враг умело камуфлируется высокими фразами: на месте Гете у Гайдара пафос новейших советских идиом из сформировавшегося к середине 30-х «текста» советской пропаганды, в том числе песенно-поэтической: тут тебе и «грохот канонады» из стихотворения Михаила Светлова о юном барабанщике (1930), и «орлята» из знаменитой песни Я. Шведова и В. Белого (1936) о герое Гражданской войны, принявшем мученическую смерть «в шестнадцать мальчишеских лет», и «светлое будущее», и «капля крови», пролитая за революцию.
В обеих повестях враг становится на место отца героя (уехавшего или арестованного), учит доверчивого мальчика своему ремеслу, а при случае отправляет шпионить: в семью военного инженера в «Барабанщике», к хорошему художнику Краснухину в «Каникулах». Есть еще ряд совпадений, причем у экранизаций их даже больше, чем у повестей. Например, приятель Кроша Петр Шмаков из «Каникул» 1980 года исполняет отчасти ту же функцию, что и жулик Юрка в поздней киноверсии «Барабанщика» (1976, режиссер А. Игишев): раскручивает героя на деньги, а перед этим составляет план экономии с суповыми пакетиками и плавлеными сырками.
Самый интересный персонаж в «Судьбе барабанщика» — лже-дядя, бывший дворянин, белогвардеец (то есть русский интеллигент еще в прежнем, дореволюционном, понимании), обаятельный мерзавец, мастер демагогии, трикстер. Будто джин из сказки, вышедшей в том же 1938 году, этот оборотень забалтывает реальность, взбивает ее, как гоголь-моголь, который он с удовольствием поглощает в трехсерийной экранизации 1976 года: «Чкалов!.. Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Ты не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром».
Его речь можно сравнить с им же помянутыми «апартаментами уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев». В обеих существующих экранизациях она сохраняет смак оригинального текста — только вот аромат принципиально иной.
В первой (1955, режиссер В. Эйсымонт) «дядю» играет Виктор Хохряков. Его персонаж, как директор треста пищевой промышленности Андрей Бабичев из «Зависти» (1927), — человек кипучей деятельности и социального оптимизма. Это переработанный продукт эпохи, в нем нет (то есть не осталось) ничего от дворянского происхождения и «старого буржуазного мира». Он природный весельчак (хочется добавить: «У»), балагур — именно этим качествам он обязан своей пересыпанной штампами речью. Он жонглирует готовыми формулами так, словно любуется ими и всерьез верит в их немеркнущую красоту и неиссякаемую силу.
«Дядя» Владимира Самойлова из постановки 1976 года — человек, утративший многое (и на это место поместивший комбинации поэтических лозунгов и песенных формул), но сохранивший глубоко внутри «белую кость» и «голубую кровь». «Эх, — вздохнул дядя, — кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня…». Он в некотором роде сам — поэт. Великий комбинатор. И гайдаровский барабанщик о чем-то таком догадывается: «…если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена». Самойлов гениально сыграл вот эту раздвоенность: каждая его фраза — это глубоко (а иногда не очень глубоко) запрятанная ирония. По сути он — пересмешник, компилятор, постмодернист. Он чувствует изнанку явлений и показывает детям брежневского застоя, как легко и весело можно переживать времена, когда от слова остается одна сухая, точно палый лист, оболочка.
Зачем пересматривать старые фильмы?.. Мне кажется, пришло время для новой экранизации бессмертной повести Гайдара. Действие будет перенесено в наши дни. Сотрудники ФСБ возникнут в первой же сцене — в виде «наружки». Доблестные чекисты будут следить за таинственным «дядей» — сотрудником «нежелательной в России организации», учрежденной в пору гайдаро-чубайсовской приватизации, в «проклятые 90-е». В сквере, в разговоре с сотрудником «Мемориала» стариком Яковом «дядя», по примеру Парвуса в недавнем сериале «Троцкий», обязательно ввернет про «лодку», которую «мы еще только начали раскачивать», и в этот момент сын воюющего в Сирии подполковника ВС РФ действительный член МГЕР Сережа Щербачов щелкнет «затвором» приобретенного у киргизского гастарбайтера Юрки бэушного айфона.
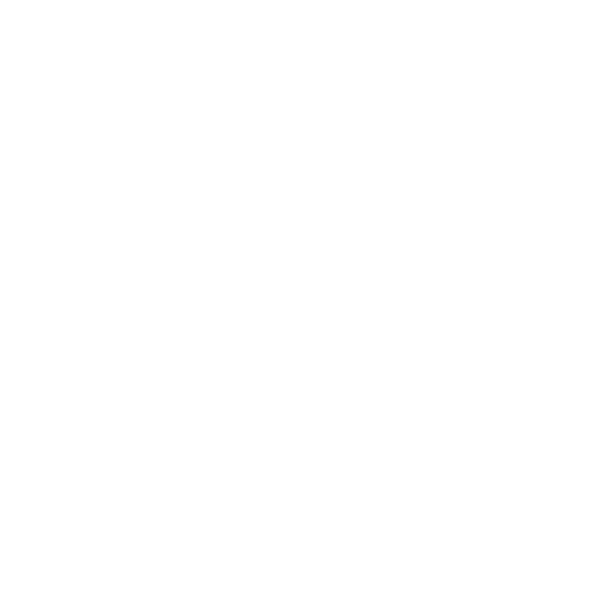
Олег Кудрин
Книга Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы» (авторский перевод с белорусского), изданная во «Времени» и как-то вовремя, произвела оглушительное впечатление, какого давно испытывать не приходилось. Неожиданно, напористо, лихо. Просто какой-то метеорит… да нет, судя по объему, скорее астероид, залетевший из соседней «Солнечной системы». Где, кстати, все вертится вокруг собственного Солнцеликого. Хотя это, в общем-то, не главное.
Но важное — политической сатиры в «Собаках» предостаточно. При этом автор безжалостен ко всем и всему, что видит. Тут вам и захваченная Беларусь (да и Киев тоже), и новый «железный занавес», отделяющий Российский Райх от остального мира. Но и Гейропа (так не названная, но такой по сути являющаяся), и крайне саркастичное изображение белорусских националистов, вплоть до крайне правых. И проклятия родному белорусскому языку, посылаемые одним из героев романа во первых же строках капиллярно живого и бьющегося в каждой строке авторского письма. (Герой этот, речевой демиург, так устал от проблем родного языка, что решил создать новый язык, названный им бальбутой)…
Но важное — политической сатиры в «Собаках» предостаточно. При этом автор безжалостен ко всем и всему, что видит. Тут вам и захваченная Беларусь (да и Киев тоже), и новый «железный занавес», отделяющий Российский Райх от остального мира. Но и Гейропа (так не названная, но такой по сути являющаяся), и крайне саркастичное изображение белорусских националистов, вплоть до крайне правых. И проклятия родному белорусскому языку, посылаемые одним из героев романа во первых же строках капиллярно живого и бьющегося в каждой строке авторского письма. (Герой этот, речевой демиург, так устал от проблем родного языка, что решил создать новый язык, названный им бальбутой)…
М.: Время, 2019.
Спасибо спасительному многоточию: понимаю, что в пересказе это выглядит странно — не то геополитический фельетон, не то делирий обпившегося лингвиста. Да и пересказ структуры романа (одновременно являющейся его сюжетом) тоже мало что прояснит. Ну да, шесть больших новелл, с хронотопом от современности до 2050 года, на первый взгляд, сюжетно сшитых тяп-ляп, а в действительности — вполне тип-топ. Ну и таки-да — магический реализм. Именно магический, поскольку завораживает, и именно реализм, поскольку достоверно и узнаваемо. При всей — часто — бредовости описываемого.
И особая сексуальность, к этой магии примыкающая. Естественная, раскованная, мудрая сексуальность панка (каковым был в молодости Бахаревич), ставшего философом. Социальным, пожалуй. В этом смысле автор щедр — просто до расточительности: разбрасывается сюжетами (прихотливыми, надо сказать) и фонтанирует темами.
Во второй половине ХХ века Василь Быков и Алесь Адамович приучили русского читателя постигать белорусскую прозу в авторских переводах. После них были попытки, и не единичные, сделать то же и на том же уровне. Бахаревич, кажется, первый, кому это удалось в полной мере. Впрочем, не с первого раза. Его «Белая муха, убийца мужчин» на русском (в отличие от белорусского) прошла практически незамеченной.
Кстати, на Родине писатель не менее, чем романной прозой, известен сборником эссе «Гамбургский счет Бахаревича». Какая похвальная дерзость, а то и наглость (тоже, в общем-то, панковская, но на ином уровне интеллекта) — 35−36-летний автор перетряхивает белорусскую классику. Причем так, что от этого невозможно оторваться — ни в эфире (Белорусская служба RFE/RL), ни на бумаге (книга вышла в 2012-м).
При этом в личном общении с Бахаревичем на тему сравнения с Быковым и Адамовичем навел его я: изменилось ли что-то в их «гамбургском счете» после опыта «Собак Европы». В ответе: «Я начал лучше их понимать. И как литераторов, и как амбициозных людей. Ведь за те месяцы, которые книжка существует по-русски, уже очень хорошо почувствовал, как расширились границы, в которых я живу как писатель… Переводить с близких языков и правда тяжело. А еще я сейчас осознал, насколько она жива — империя. "Собаки" в России читают совсем не так, как в Беларуси. Наверное, я чувствую себя сейчас, как писатели из бывших британских колоний. Это новый опыт. Думаю, Быков и Адамович чувствовали то же самое».
Интересный поворот. Я-то считал естественным (до банальности) сравнение с Быковым-Адамовичем. А для Бахаревича естественно сравнение с выходцами из другой империи — теми, что спорят за нерусский Букер. Причем естественно настолько, что он счел нужным продолжить вектор: «Если честно, я еще не совсем понял, что происходит. Но пытаюсь. Наверное, Рушди, когда писал первый роман, чувствовал что-то подобное».
Вот так, не меньше. Но если вдуматься, сравнение вправду скромное: Бахаревич сравнил себя с Рушди времен «Гримуса», а не «Детей полуночи» (хотя свой «Гримус» у него уже был). Тут самое время упомянуть эпиграф к роману — У. Х. Оден «Памяти У. Б. Йейтса». И «dogs of Europe» как раз оттуда. Книга Ольгерда вообще показатель того, что понятия «ментальность», «европейскость», хоть и трудноопределяемы, но все же реальны. Вот, казалось бы, все на русском языке и по-русски, и так узнаваемо — обыгрывание кинокомедии «Белые Росы», «Путешествия Нильса с гусями» (русского перевода и советского мультика). Однако роман при этом — нерусский (в том числе и в грубоватом армейско-сержантском смысле этого слова). Но тем ценней и интересней имеющаяся отстраненность, транскультурность.
И особая сексуальность, к этой магии примыкающая. Естественная, раскованная, мудрая сексуальность панка (каковым был в молодости Бахаревич), ставшего философом. Социальным, пожалуй. В этом смысле автор щедр — просто до расточительности: разбрасывается сюжетами (прихотливыми, надо сказать) и фонтанирует темами.
Во второй половине ХХ века Василь Быков и Алесь Адамович приучили русского читателя постигать белорусскую прозу в авторских переводах. После них были попытки, и не единичные, сделать то же и на том же уровне. Бахаревич, кажется, первый, кому это удалось в полной мере. Впрочем, не с первого раза. Его «Белая муха, убийца мужчин» на русском (в отличие от белорусского) прошла практически незамеченной.
Кстати, на Родине писатель не менее, чем романной прозой, известен сборником эссе «Гамбургский счет Бахаревича». Какая похвальная дерзость, а то и наглость (тоже, в общем-то, панковская, но на ином уровне интеллекта) — 35−36-летний автор перетряхивает белорусскую классику. Причем так, что от этого невозможно оторваться — ни в эфире (Белорусская служба RFE/RL), ни на бумаге (книга вышла в 2012-м).
При этом в личном общении с Бахаревичем на тему сравнения с Быковым и Адамовичем навел его я: изменилось ли что-то в их «гамбургском счете» после опыта «Собак Европы». В ответе: «Я начал лучше их понимать. И как литераторов, и как амбициозных людей. Ведь за те месяцы, которые книжка существует по-русски, уже очень хорошо почувствовал, как расширились границы, в которых я живу как писатель… Переводить с близких языков и правда тяжело. А еще я сейчас осознал, насколько она жива — империя. "Собаки" в России читают совсем не так, как в Беларуси. Наверное, я чувствую себя сейчас, как писатели из бывших британских колоний. Это новый опыт. Думаю, Быков и Адамович чувствовали то же самое».
Интересный поворот. Я-то считал естественным (до банальности) сравнение с Быковым-Адамовичем. А для Бахаревича естественно сравнение с выходцами из другой империи — теми, что спорят за нерусский Букер. Причем естественно настолько, что он счел нужным продолжить вектор: «Если честно, я еще не совсем понял, что происходит. Но пытаюсь. Наверное, Рушди, когда писал первый роман, чувствовал что-то подобное».
Вот так, не меньше. Но если вдуматься, сравнение вправду скромное: Бахаревич сравнил себя с Рушди времен «Гримуса», а не «Детей полуночи» (хотя свой «Гримус» у него уже был). Тут самое время упомянуть эпиграф к роману — У. Х. Оден «Памяти У. Б. Йейтса». И «dogs of Europe» как раз оттуда. Книга Ольгерда вообще показатель того, что понятия «ментальность», «европейскость», хоть и трудноопределяемы, но все же реальны. Вот, казалось бы, все на русском языке и по-русски, и так узнаваемо — обыгрывание кинокомедии «Белые Росы», «Путешествия Нильса с гусями» (русского перевода и советского мультика). Однако роман при этом — нерусский (в том числе и в грубоватом армейско-сержантском смысле этого слова). Но тем ценней и интересней имеющаяся отстраненность, транскультурность.
Тем более, что «Собаки Европы» это не просто перевод «Сабак Эўропы», это, по словам автора: «Вправду новая книга. Русская версия белорусскоязычного романа. Она получилась лучше белорусской — потому что книга, над которой работаешь два года, всегда будет лучше книги, над которой работал год. В русской версии более четко прописан сюжет, прозрачней рассказанная история. Она стилистически более отточенная, отшлифованная».
(Не мудрено, что автор теперь захотел проделать обратную работу, вернуться к белорусскому варианту. Но уже захвачен новой книгой и потому бежит от своих «Собак»). «А еще: я не просто перевел, а переписал стихи из романа по-русски. Некоторые удачно, некоторые не очень. Например, для стихотворения "Собаколовы" так и не смог найти правильный русский язык».
Да, а каков он со стороны — русский язык, правильный, неправильный? «Русский язык предлагает гораздо больше готовых языковых и литературных конструкций, а я всегда старался их избегать. Литературная традиция русского языка более развита. Здесь ты постоянно рискуешь кого-то повторить, а этого не хочется». После моей просьбы объяснить разницу метафорами автор продолжил: «Ну, возможно так: русский язык — как дом, в котором ничего нельзя переставлять, так как все уже имеет свои места; стоит что-то переставить, и все заскрипит, загремит, рухнет. Но переставлять хочется, хочется все переставить по-новому, так, как удобно и интересно тебе. Белорусский язык в этом смысле более свободен, здесь слова тоже прикручены к полу, но не так сильно… Вообще, да, русский язык — язык власти. Я имею в виду — язык приказов, канцелярий, пропаганды. Язык метрополии, язык империи. Это я почувствовал, мы все это чувствуем. Но это и язык действительно великой литературы. Язык Набокова — язык изгнания, язык Достоевского — язык боли… Так что империя — только одна проблема. Вторая — то, что по-русски было написано действительно много замечательных книг. И ты должен как автор чувствовать, кто за твоей спиной».
Так что Ольгерд прекрасно понимал все риски вызова. Но при том: «Перевод такой книги был для меня художественной задачей, решать которую страшно интересно. Интересно работать с русским языком (который, как выяснилось, я не забыл), интересно искать Язык для этого текста в другом пространстве. Ну, и, конечно, этот перевод: мое "расширение пространства борьбы"». В последних трех словах, как кажется, обыгрывается — с долей иронии — сама формула, но не имеется в виду суть одноименного дебютного романа Уэльбека — беспросветно пессимистическая экзистенция героя. Хотя с другой стороны — чего-чего, а пессимизма «Собакам Европы» тоже не занимать. И если уж речь зашла об этом, стоит вернуться к эпиграфу. Автор выбрал, кажется, самые мрачные строфы стихотворения (в русском переводе заметно смягченные; впрочем, жесткости оригинала, кажется, ни в каком из переводов достичь не удавалось), на нисходящей синусоиде — «Follow, poet, follow right / To the bottom of the night», урезав имеющееся у Одена следом возвышение.
При всем при том мрачного, тяжелого осадка по прочтении «Собак Европы» не остается. Может, еще и потому, что заканчивается книга правилами (всего 10, как заповедей) и словарем (недлинным) бальбуты — языка свободы (в этом смысл правил), медитативного языка поэзии (все слова одной части речи имеют одинаковые окончания). В словаре этом, кстати, помечена только одна национальность — belarusuta и производное от нее определение — belarusoje. Естественное воздаяние за поношения в начале книги.
Деталь напоследок. С белорусскими друзьями мы общаемся так — я им на украинском, они мне по-белорусски. Это к тому, что ответственность за нюансы смыслов в переводе Бахаревича с belarusoje balbutima на русский в данном тексте несу я. Так что извините, если вслед за «Собаками Европы», тут найдутся «Блохи Европы».
Да, а каков он со стороны — русский язык, правильный, неправильный? «Русский язык предлагает гораздо больше готовых языковых и литературных конструкций, а я всегда старался их избегать. Литературная традиция русского языка более развита. Здесь ты постоянно рискуешь кого-то повторить, а этого не хочется». После моей просьбы объяснить разницу метафорами автор продолжил: «Ну, возможно так: русский язык — как дом, в котором ничего нельзя переставлять, так как все уже имеет свои места; стоит что-то переставить, и все заскрипит, загремит, рухнет. Но переставлять хочется, хочется все переставить по-новому, так, как удобно и интересно тебе. Белорусский язык в этом смысле более свободен, здесь слова тоже прикручены к полу, но не так сильно… Вообще, да, русский язык — язык власти. Я имею в виду — язык приказов, канцелярий, пропаганды. Язык метрополии, язык империи. Это я почувствовал, мы все это чувствуем. Но это и язык действительно великой литературы. Язык Набокова — язык изгнания, язык Достоевского — язык боли… Так что империя — только одна проблема. Вторая — то, что по-русски было написано действительно много замечательных книг. И ты должен как автор чувствовать, кто за твоей спиной».
Так что Ольгерд прекрасно понимал все риски вызова. Но при том: «Перевод такой книги был для меня художественной задачей, решать которую страшно интересно. Интересно работать с русским языком (который, как выяснилось, я не забыл), интересно искать Язык для этого текста в другом пространстве. Ну, и, конечно, этот перевод: мое "расширение пространства борьбы"». В последних трех словах, как кажется, обыгрывается — с долей иронии — сама формула, но не имеется в виду суть одноименного дебютного романа Уэльбека — беспросветно пессимистическая экзистенция героя. Хотя с другой стороны — чего-чего, а пессимизма «Собакам Европы» тоже не занимать. И если уж речь зашла об этом, стоит вернуться к эпиграфу. Автор выбрал, кажется, самые мрачные строфы стихотворения (в русском переводе заметно смягченные; впрочем, жесткости оригинала, кажется, ни в каком из переводов достичь не удавалось), на нисходящей синусоиде — «Follow, poet, follow right / To the bottom of the night», урезав имеющееся у Одена следом возвышение.
При всем при том мрачного, тяжелого осадка по прочтении «Собак Европы» не остается. Может, еще и потому, что заканчивается книга правилами (всего 10, как заповедей) и словарем (недлинным) бальбуты — языка свободы (в этом смысл правил), медитативного языка поэзии (все слова одной части речи имеют одинаковые окончания). В словаре этом, кстати, помечена только одна национальность — belarusuta и производное от нее определение — belarusoje. Естественное воздаяние за поношения в начале книги.
Деталь напоследок. С белорусскими друзьями мы общаемся так — я им на украинском, они мне по-белорусски. Это к тому, что ответственность за нюансы смыслов в переводе Бахаревича с belarusoje balbutima на русский в данном тексте несу я. Так что извините, если вслед за «Собаками Европы», тут найдутся «Блохи Европы».
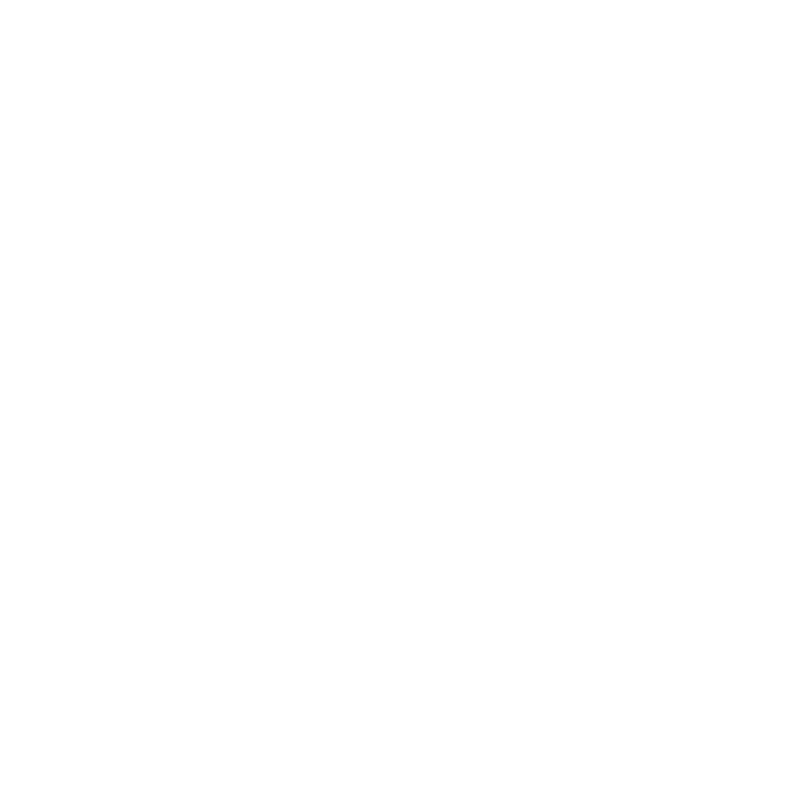
Елена Пестерева
Что было главным за прошедшую пару месяцев? Поэтические вечера и концерты, проведенные в поддержку сестер Хачатурян. Мне сложно писать о том, в чем сама же и участвовала. Но бывают случаи, когда необходимо.
Мы часто говорим о новом явлении — литературе травмы. О том, где кончается описание личного опыта и начинается художественное обобщение. О том, как непросто писать о насилии, боли, унижении, стыде — и претендовать на то, чтобы быть в литературе, а не в жанре частной жалобы или газетной заметки. И тон, которым литературное сообщество об этом говорит, заставляет меня волноваться. Поэтому попробую начать с самого начала.
Мы часто говорим о новом явлении — литературе травмы. О том, где кончается описание личного опыта и начинается художественное обобщение. О том, как непросто писать о насилии, боли, унижении, стыде — и претендовать на то, чтобы быть в литературе, а не в жанре частной жалобы или газетной заметки. И тон, которым литературное сообщество об этом говорит, заставляет меня волноваться. Поэтому попробую начать с самого начала.
С позиций психотерапии к травмирующим событиям традиционно относят и переживание сексуального и/или физического насилия, лишения свободы, жестокого обращения, нищеты, утрат, катаклизмов и катастроф — и свидетельствование этого. Быть жертвой самому и видеть чужое страдание — разные вещи, но одинаково травматичные: зеркальные нейроны обеспечивают и возможность, и неизбежность сопереживания.
Мы помним: лирика — это род литературы, воспроизводящий чувства и переживания поэта. Очевидно, что травмирующее событие вызывает эмоциональную бурю и наплыв чувств, часто амбивалентных. Очевидно, что они могут быть основой стихотворения. Проще говоря, очевидно, что поэт вполне может писать о том, как его изнасиловали или как его друг-гей повесился на радужном флаге, может с не меньшим правом, чем сотни лет писал о том, как безответно/взаимно влюбился, как горевал в разлуке, как оплакивал родину, ликовал от победы, был потрясен красотой родного края. Законы лирического произведения просты: в первую очередь осознай как можно точнее свое переживание, то есть разложи его на тонкие эмоции. Во вторую — заставь своего читателя испытать те же самые эмоции посредством текста. А какими средствами это будет достигнуто — в рифму там или нет, с аллюзиями или с метафорами, это уж как хочешь.
Писать про травмирующее событие сложнее всего: нужен и труд души, и труд слова.
Если прочитать в газетной заметке комментарии жертвы: «потом он избил меня. просил прощения. я простила. потом он избил меня. просил прощения. я простила», — то волей-неволей содрогнешься, даже если никто не избивал тебя самого и сам ты никого не избивал. Это нормально. Одновременно с этим любая здоровая психика стремится защитить себя от неприятного переживания. Забывает, вытесняет, обвиняет, отрицает, вот, как в случае лирической героини стихотворения Дарьи Серенко, — «прощает». Это тоже нормально.
Я прекрасно понимаю, что для этого содрогания и вытеснения художественного текста не нужно — достаточно одного называния события. Но он необходим для художественного обобщения в следующей строфе:
Мы помним: лирика — это род литературы, воспроизводящий чувства и переживания поэта. Очевидно, что травмирующее событие вызывает эмоциональную бурю и наплыв чувств, часто амбивалентных. Очевидно, что они могут быть основой стихотворения. Проще говоря, очевидно, что поэт вполне может писать о том, как его изнасиловали или как его друг-гей повесился на радужном флаге, может с не меньшим правом, чем сотни лет писал о том, как безответно/взаимно влюбился, как горевал в разлуке, как оплакивал родину, ликовал от победы, был потрясен красотой родного края. Законы лирического произведения просты: в первую очередь осознай как можно точнее свое переживание, то есть разложи его на тонкие эмоции. Во вторую — заставь своего читателя испытать те же самые эмоции посредством текста. А какими средствами это будет достигнуто — в рифму там или нет, с аллюзиями или с метафорами, это уж как хочешь.
Писать про травмирующее событие сложнее всего: нужен и труд души, и труд слова.
Если прочитать в газетной заметке комментарии жертвы: «потом он избил меня. просил прощения. я простила. потом он избил меня. просил прощения. я простила», — то волей-неволей содрогнешься, даже если никто не избивал тебя самого и сам ты никого не избивал. Это нормально. Одновременно с этим любая здоровая психика стремится защитить себя от неприятного переживания. Забывает, вытесняет, обвиняет, отрицает, вот, как в случае лирической героини стихотворения Дарьи Серенко, — «прощает». Это тоже нормально.
Я прекрасно понимаю, что для этого содрогания и вытеснения художественного текста не нужно — достаточно одного называния события. Но он необходим для художественного обобщения в следующей строфе:
Так наша квартира стала горячей точкой. Там были военные, были женщины, были дети.
Так частный случай перестает быть только частным, и читатель получает точку, с которой видно проблему целиком. Так в тексте появляется не только муж-пьяница и его жертва, но и все его сослуживцы на этой войне и на всякой другой. Достаточное ли это художественное обобщение, чтобы считать текст Дарьи Серенко стихотворением? Для меня — да.
Если хватает сил, поэт может говорить от лица бессловесных. Выдерживать чужую — или свою — воронку травмы, называть все ее витки по имени и давать им кружиться в тексте. Передавать текстом всю амбивалентность и путаницу чувств, все смятение, и ужас, и ад, и разочарование, и любовь.
Что лучшее поэт может сделать для жертвы насилия? Сказать. Для насильника? Сказать. Для того, кто видел насилие со стороны? Для читателя? Для себя самого? Для истины? Сказать.
В вечерах и концертах в поддержку сестер Хачатурян принимало участие больше трехсот человек. Мне трудно оценить, много это или мало. Но я очень рада, что они есть.
Если хватает сил, поэт может говорить от лица бессловесных. Выдерживать чужую — или свою — воронку травмы, называть все ее витки по имени и давать им кружиться в тексте. Передавать текстом всю амбивалентность и путаницу чувств, все смятение, и ужас, и ад, и разочарование, и любовь.
Что лучшее поэт может сделать для жертвы насилия? Сказать. Для насильника? Сказать. Для того, кто видел насилие со стороны? Для читателя? Для себя самого? Для истины? Сказать.
В вечерах и концертах в поддержку сестер Хачатурян принимало участие больше трехсот человек. Мне трудно оценить, много это или мало. Но я очень рада, что они есть.

Николай Подосокорский
6 июля на 92-м году жизни отошел в лучший мир поэт и искусствовед Лев Мочалов, в эпоху Застоя считавшийся одним из наиболее авторитетных художественных критиков Ленинграда. Дмитрий Быков не раз называл его своим литературным учителем, заметив в одной из программ на «Эхе Москвы»: «Для меня Мочалов всегда был образцом мужества, творческого богатства, великолепной способности к возрождению, восстановлению. И, конечно, никогда не забуду, как я посетил его в больнице, где он в очень бедственном был положении <…> и Мочалов сказал: "Ну, а что делать? Пишу статью о Гегеле"». Сам Мочалов замечал в одном из своих стихотворений:
В этом мире — чтобы оглядеться;
юности — чтобы в него вглядеться;
зрелости — чтобы его принять.
Новизне не доверяет старость,
застит откровения — усталость;
то немногое, что нам осталось, —
вглядываться в прошлое опять.
юности — чтобы в него вглядеться;
зрелости — чтобы его принять.
Новизне не доверяет старость,
застит откровения — усталость;
то немногое, что нам осталось, —
вглядываться в прошлое опять.
Если взглянуть в то недавнее, но быстро ускользающее прошлое, которое отделяет предыдущий выпуск «Легкой кавалерии» от нынешнего, то отмечу, к примеру, награждение Литературной премией Александра Пятигорского книги Сергея Мохова «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия». Критик Юрий Сапрыкин в связи с этим обратил внимание на то, что тема «русской смерти», которую давно разрабатывает Мохов, в последнее время заявила о себе в полный голос: «Зловещий параллелизм последних дней: люди гибнут под водой в Иркутске — люди гибнут под водой в Североморске, авария на глубоководном аппарате происходит в те же дни, когда в прокат выходит фильм "Курск", тут же день в день публикуется кладбищенское расследование Голунова — а премию Пятигорского получает книга Сергея Мохова "Жизнь и смерть похоронной индустрии"…».
Из новостей других литературных премий выделю объявление лауреатов третьего сезона премии «Лицей», которая теперь уже окончательно пришла на смену прекратившей свое существование премии «Дебют». К сожалению, в отличие от того же «Дебюта», в «Лицее» номинация «критика» не предусмотрена, что, на мой взгляд, является серьезным упущением, поскольку часто получается так, что и поэтических, и прозаических книг выходит много, но всерьез обсуждать и разбирать их становится некому. Интернет-пользователи бурно отреагировали на беседу двух современных поэтесс — нового лауреата премии «Лицей» Оксаны Васякиной и звезды соцсетей Веры Полозковой на тему «Каково женщине в поэзии?».
Как считает Полозкова: «Я думаю, что в русской литературе счастливым быть невозможно в принципе… Здесь такая общецеховая установка, что любого, громко заявившего о себе каким бы то ни было образом, будут топтать и уничтожать от шести до десяти первых лет его карьеры. Об этом не предупреждают обычно».
Особенно многих задел выпад Полозковой в адрес различных литературных тусовок: «Меня убивает несгибаемость этой системы, что любое объединение, сообщество устроены так, что своих оно покрывает и выгораживает в любых самых некрасивых и нравственных, и внутренних ситуациях. И в случае плохих текстов, и в случае провалов, и в случае всего, что угодно. Нам с Оксаной повезло, потому что в нашей жизни случалась жесть похлеще, чем критика дядек. А ведь есть люди, которых это сломало навсегда, которые на втором или на третьем курсе Литинститута просто вышли в окно, потому что это невозможно терпеть». Не думаю, что последний вывод вполне справедлив — все-таки жесткая критика распространена отнюдь не только в среде литераторов и не только по отношению к юным дарованиям, но далеко не все воспринимают ее как тяжелейшую трамву и, тем более, как повод свести счеты с жизнью.
Вместе с тем диалог Полозковой и Васякиной о нелегкой женской доле в литературе, успехе вопреки профессиональному сообществу и травле со стороны коллег в очередной раз подтверждает тезис о том, что именно обида в современном мире зачастую является центром самоощущения человека. Об этом в недавнем интервью напомнил историк, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин: «Центром самоощущения человека становятся способность и умение правильно оскорбиться от лица какой-то группы. В процессе проявления обиды мы конструируем собственную идентичность. Поэтому настойчиво ищем случая быть оскорбленными <…> Дело не в том, что новая культура выдумала обиду. Люди обижались и раньше, причем часто на те же самые вещи. Но я вспоминаю, что моя бабушка учила меня, что "на обиженных воду возят", и я сам со ссылкой на бабушку повторяю это внукам. Было принято считать, что обида — это неприятное чувство, с которым надо уметь справляться. Мы всегда обижались, иногда на близких, иногда на дальних, но каждый понимал, что на обиде ничего особо не выстроишь. А теперь оказалось, что быть обиженным — это самое крутое, что может с тобой случиться».
Наконец, традиционно порекомендую пять книжных новинок, которые считаю весьма интересными:
1) Собрание сочинений в трех томах Виктора Сосноры.
2) «Королева фей» Эдмунда Спенсера, книга первая, «Легенда о рыцаре алого креста, или о святости».
3) Книга Полины Ермаковой «Сентиментальные иконы Лоренса Стерна: "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии" и визуальная культура Европы конца XVIII — середины XIX века».
4) Алистер Кроули, «Тангейзер. История на все времена».
5) Джованни Боккаччо, «Декамерон».
Из новостей других литературных премий выделю объявление лауреатов третьего сезона премии «Лицей», которая теперь уже окончательно пришла на смену прекратившей свое существование премии «Дебют». К сожалению, в отличие от того же «Дебюта», в «Лицее» номинация «критика» не предусмотрена, что, на мой взгляд, является серьезным упущением, поскольку часто получается так, что и поэтических, и прозаических книг выходит много, но всерьез обсуждать и разбирать их становится некому. Интернет-пользователи бурно отреагировали на беседу двух современных поэтесс — нового лауреата премии «Лицей» Оксаны Васякиной и звезды соцсетей Веры Полозковой на тему «Каково женщине в поэзии?».
Как считает Полозкова: «Я думаю, что в русской литературе счастливым быть невозможно в принципе… Здесь такая общецеховая установка, что любого, громко заявившего о себе каким бы то ни было образом, будут топтать и уничтожать от шести до десяти первых лет его карьеры. Об этом не предупреждают обычно».
Особенно многих задел выпад Полозковой в адрес различных литературных тусовок: «Меня убивает несгибаемость этой системы, что любое объединение, сообщество устроены так, что своих оно покрывает и выгораживает в любых самых некрасивых и нравственных, и внутренних ситуациях. И в случае плохих текстов, и в случае провалов, и в случае всего, что угодно. Нам с Оксаной повезло, потому что в нашей жизни случалась жесть похлеще, чем критика дядек. А ведь есть люди, которых это сломало навсегда, которые на втором или на третьем курсе Литинститута просто вышли в окно, потому что это невозможно терпеть». Не думаю, что последний вывод вполне справедлив — все-таки жесткая критика распространена отнюдь не только в среде литераторов и не только по отношению к юным дарованиям, но далеко не все воспринимают ее как тяжелейшую трамву и, тем более, как повод свести счеты с жизнью.
Вместе с тем диалог Полозковой и Васякиной о нелегкой женской доле в литературе, успехе вопреки профессиональному сообществу и травле со стороны коллег в очередной раз подтверждает тезис о том, что именно обида в современном мире зачастую является центром самоощущения человека. Об этом в недавнем интервью напомнил историк, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин: «Центром самоощущения человека становятся способность и умение правильно оскорбиться от лица какой-то группы. В процессе проявления обиды мы конструируем собственную идентичность. Поэтому настойчиво ищем случая быть оскорбленными <…> Дело не в том, что новая культура выдумала обиду. Люди обижались и раньше, причем часто на те же самые вещи. Но я вспоминаю, что моя бабушка учила меня, что "на обиженных воду возят", и я сам со ссылкой на бабушку повторяю это внукам. Было принято считать, что обида — это неприятное чувство, с которым надо уметь справляться. Мы всегда обижались, иногда на близких, иногда на дальних, но каждый понимал, что на обиде ничего особо не выстроишь. А теперь оказалось, что быть обиженным — это самое крутое, что может с тобой случиться».
Наконец, традиционно порекомендую пять книжных новинок, которые считаю весьма интересными:
1) Собрание сочинений в трех томах Виктора Сосноры.
2) «Королева фей» Эдмунда Спенсера, книга первая, «Легенда о рыцаре алого креста, или о святости».
3) Книга Полины Ермаковой «Сентиментальные иконы Лоренса Стерна: "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии" и визуальная культура Европы конца XVIII — середины XIX века».
4) Алистер Кроули, «Тангейзер. История на все времена».
5) Джованни Боккаччо, «Декамерон».
М.: Common Place, 2018.
СПб.: Пальмира, 2018.
М.: Энигма, 2019.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019.
М.: Клуб Касталия, 2019.
М.: Ладомир, 2019
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике