Февраль 2019
Легкая кавалерия. Выпуск №2
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
Говорим дальше — и снова о разных интересных штуках: об относительности классификаций и совершенно разном восприятии того, что такое литкритика — ответ на статью В. Козлова «Ничья земля современной поэзии»; об угасании жанровой таксономии и «романе в становлении»; о раздробленности и таянии — двух тенденциях в литпространстве; о цензуре и волшебном слове «целлофанирование»; о «Годе культуры» и «Домашнем аресте», двух новых сериалах, или о литературе-кино-жизни; об «упадничестве» как жанре и как сюжете литературы 2010-х; о связи военных стихотворений Светлова с гомосексуальной темой; о новых книгах Д. Бобылевой и Н. Делаланд; о поэте-энциклопедисте Ю. Гудумаке; а также о многом другом…
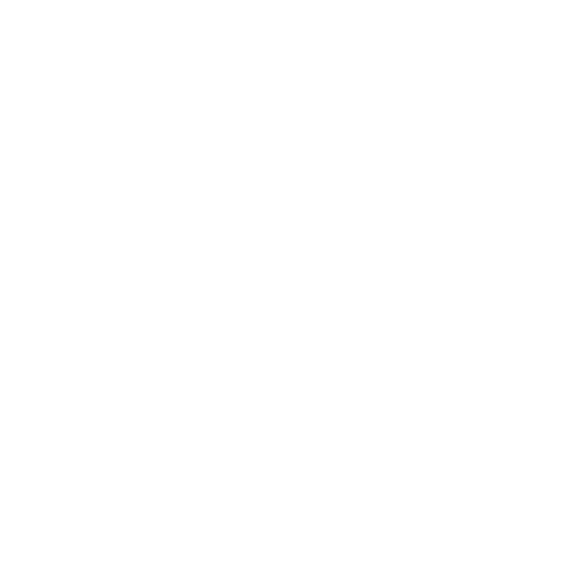
Евгений Абдуллаев
Переезд рубрики на новое место (в «Вопросы литературы») придется начать с легкой уборочки. Нет, не c выметания сора; просто какие-то вещи нужно расставить по своим местам.
Речь о статье Владимира Козлова «Ничья земля современной поэзии», опубликованной в пятом номере «Вопросов литературы» за прошлый год. Даже не о всей статье — она большая; а о части, посвященной мне, грешному. Впрочем, надеюсь, что-то, о чем придется говорить, выходит за рамки внутрицеховых перепалок и будет небезынтересно и тем, кто к критическому цеху не относится.
Речь о статье Владимира Козлова «Ничья земля современной поэзии», опубликованной в пятом номере «Вопросов литературы» за прошлый год. Даже не о всей статье — она большая; а о части, посвященной мне, грешному. Впрочем, надеюсь, что-то, о чем придется говорить, выходит за рамки внутрицеховых перепалок и будет небезынтересно и тем, кто к критическому цеху не относится.
В. Козлов. Ничья земля современной поэзии // Вопросы литературы. 2018. № 5.
Итак. Посетовав на то, что в современной поэтической критике царит «полная эклектика, "лужковский" стиль», Козлов пишет: «Самый значительный памятник этого стиля в критике – опубликованная в "Арионе" c 2010-го по 2015-й год серия из десяти статей Евгения Абдуллаева под общим названием "Поэзия действительности" ... Абдуллаев, человек и художник с барочным сознанием, изобрел целый ряд классификаций для отношения поэзии с этой самой действительностью».
Что сказать? «Барочное» у меня сознание, как у «человека и художника» (чуть не написал «парохода и человека»), или нет – судить не буду: со стороны виднее. Не стану спорить и о «полной эклектике» и «"лужковском" стиле» моих статей – поскольку не ясно, что уважаемый автор под этим подразумевает. Что-то не очень хорошее, но что?
Что сказать? «Барочное» у меня сознание, как у «человека и художника» (чуть не написал «парохода и человека»), или нет – судить не буду: со стороны виднее. Не стану спорить и о «полной эклектике» и «"лужковском" стиле» моих статей – поскольку не ясно, что уважаемый автор под этим подразумевает. Что-то не очень хорошее, но что?
Там же. С. 119.
Что же касается классификаций… Да и здесь, пожалуй, соглашусь. «Изобрел» я в упомянутом арионовском цикле, правда, не «целый ряд классификаций», а всего одну. Или одну с половиной — был в одной из «Поэзий действительности» еще разговор о реализме versus натурализме. Но припоминает мне Козлов именно первую. Не стану ее пересказывать, это все есть в сети. Да и смысла не вижу: классификация эта была важна именно ad hoc, как попытка нащупать какую-то концептуальную рамку. Уже с третьей статьи цикла отпала, как отработанная ступень.
Классификация — инструмент важный; но в литкритике имеет довольно относительный, связанный с конкретным материалом, характер. Скажем, сам Козлов предложил пару лет назад своеобразное деление: «Ни в одном учебнике по поэзии мы не найдем информации о том, что существуют две разные поэзии— поэзия как сфера самовыражения и культуры, с одной стороны, а также поэзия как сфера поиска и искусства, с другой» (курсив В. К. — Ред.). И нигде больше эту классификацию (где культура почему-то противопоставлена искусству), похоже, не использовал. По крайне мере, в источниках, доступных в Сети. Хотя заявка — чуть ли не на новую концепцию.
Классификация — инструмент важный; но в литкритике имеет довольно относительный, связанный с конкретным материалом, характер. Скажем, сам Козлов предложил пару лет назад своеобразное деление: «Ни в одном учебнике по поэзии мы не найдем информации о том, что существуют две разные поэзии— поэзия как сфера самовыражения и культуры, с одной стороны, а также поэзия как сфера поиска и искусства, с другой» (курсив В. К. — Ред.). И нигде больше эту классификацию (где культура почему-то противопоставлена искусству), похоже, не использовал. По крайне мере, в источниках, доступных в Сети. Хотя заявка — чуть ли не на новую концепцию.
Е. Абдуллаев. Поэзия действительности (I). Очерки о поэзии 2010-х // Арион. 2010. № 2.
Вообще, непоследовательностей такого рода у Козлова хватает. В той же «Ничейной земле…» он пишет: «…выражения "архаисты и новаторы", "промежуток" хочется на время просто запретить». И публикует у себя статью Олега Дозморова, начинающуюся: «Извечный спор архаистов и новаторов…».
Правда, это вышло в 2016-м, а «Ничейная земля…» — 2018-го. За два года «архаисты», «новаторы» и «промежутки» могли намозолить критику глаза…
Но тогда возникает другой вопрос. Его задаю даже не я, а Инна Булкина: «Козлов препарирует статьи <Абдуллаева> 2010−2015 годов, — для истории нормально, для критики — нет».
Здесь, собственно, ухвачено главное. А именно — совершенно разное восприятие того, что такое литературная критика. Для меня (и, надеюсь, не только) — это синтетическая область на стыке художественной литературы с филологией, философией, публицистикой и, отчасти, социологией. Для Козлова (и, увы, не только) — это исключительно отрасль филологии, точнее — истории литературы.
Тогда становится понятно, почему в статье 2018 года Козлов с жаром, с каким обычно перетирают свежие новости, обрушивается на мои статьи семилетней давности. Даже не 2010−2015-го, как пишет Булкина, а 2010−2011 годов. Добро бы после этого у меня ничего о поэзии не выходило… Но для историка литературы такой подход — да, вполне нормально.
«Литературоведение всегда запаздывает. Приходит со своим инструментарием позже, чем более легко экипированная литкритика. Со своими методологиями и диссертационными советами, терминами и цитатами…» Это, простите, из себя самого решил вспомнить. Писалось по поводу критика из совершенно другого, чем Козлов, лагеря: Александра Житенева. Постоянного автора «НЛО» и «Воздуха», члена Комитета премии Андрея Белого…
Правда, это вышло в 2016-м, а «Ничейная земля…» — 2018-го. За два года «архаисты», «новаторы» и «промежутки» могли намозолить критику глаза…
Но тогда возникает другой вопрос. Его задаю даже не я, а Инна Булкина: «Козлов препарирует статьи <Абдуллаева> 2010−2015 годов, — для истории нормально, для критики — нет».
Здесь, собственно, ухвачено главное. А именно — совершенно разное восприятие того, что такое литературная критика. Для меня (и, надеюсь, не только) — это синтетическая область на стыке художественной литературы с филологией, философией, публицистикой и, отчасти, социологией. Для Козлова (и, увы, не только) — это исключительно отрасль филологии, точнее — истории литературы.
Тогда становится понятно, почему в статье 2018 года Козлов с жаром, с каким обычно перетирают свежие новости, обрушивается на мои статьи семилетней давности. Даже не 2010−2015-го, как пишет Булкина, а 2010−2011 годов. Добро бы после этого у меня ничего о поэзии не выходило… Но для историка литературы такой подход — да, вполне нормально.
«Литературоведение всегда запаздывает. Приходит со своим инструментарием позже, чем более легко экипированная литкритика. Со своими методологиями и диссертационными советами, терминами и цитатами…» Это, простите, из себя самого решил вспомнить. Писалось по поводу критика из совершенно другого, чем Козлов, лагеря: Александра Житенева. Постоянного автора «НЛО» и «Воздуха», члена Комитета премии Андрея Белого…
В. Козлов. Ничья земля современной поэзии // Вопросы литературы. 2018. № 5.
Е. Абдуллаев. Достоянье доцента? // Октябрь. 2013. № 11. С. 158.
Лагерь здесь, впрочем, один — филологизирующая критика.
Разве что «Воздух» — это ее более радикальный фланг, а «Prosōdia» — более консервативный. И на одном фланге — язык критики пестрит непереваренными англицизмами, а на другом — напоминает научпоп. На одном — сияют незакатным светом, скажем, Андрукович и Рымбу, а на другом — Шварцман и Петухов…
Разве что «Воздух» — это ее более радикальный фланг, а «Prosōdia» — более консервативный. И на одном фланге — язык критики пестрит непереваренными англицизмами, а на другом — напоминает научпоп. На одном — сияют незакатным светом, скажем, Андрукович и Рымбу, а на другом — Шварцман и Петухов…
Суть от этого не меняется: установки одни и те же.
И заявление Козлова, что задача критики — не судить, а объяснять, «как работает» поэзия, сразу вызывает в памяти некогда любимое mot Дмитрия Кузьмина о «презумпции смысла». Тоже призывавшего трудиться прежде всего над «извлечением смысла» (как бы само собой присутствующего). Вот и Козлову задача критика видится в том, чтобы «вытащить "кочерыжку смысла"».
Поэтому ни в «Prosōdia», ни в «Воздухе» не публикуют отрицательных рецензий: не должна критика судить, точка. Напомнить, что ли, что само слово «критика» возникло от глагола «крино» («судить, предавать суду»)? Или что выражение «кочерыжка смысла» возникло у Ходасевича как раз в остро-критическом отзыве — о стихах Пастернака?
Но для литературоведения — это вполне нормально. От него не ожидают оценочных суждений; оно именно что изучает, как что у поэта «работает» и какие где скрыты смыслы. И формирует канон. В этом, опять же, два журнала вполне совпадают: в каждом выпуске — негласный «поэт номера». В «Воздухе» — герой рубрики «Объяснение в любви»; в «Prosōdia» — тот, кому посвящен материал главного редактора и чей портрет украшает обложку. Ибо обязан критик называть «лучших поэтов», отбирать «пятьдесят лучших имен». Чья это мысль — Козлова или Кузьмина, догадайтесь сами.
И заявление Козлова, что задача критики — не судить, а объяснять, «как работает» поэзия, сразу вызывает в памяти некогда любимое mot Дмитрия Кузьмина о «презумпции смысла». Тоже призывавшего трудиться прежде всего над «извлечением смысла» (как бы само собой присутствующего). Вот и Козлову задача критика видится в том, чтобы «вытащить "кочерыжку смысла"».
Поэтому ни в «Prosōdia», ни в «Воздухе» не публикуют отрицательных рецензий: не должна критика судить, точка. Напомнить, что ли, что само слово «критика» возникло от глагола «крино» («судить, предавать суду»)? Или что выражение «кочерыжка смысла» возникло у Ходасевича как раз в остро-критическом отзыве — о стихах Пастернака?
Но для литературоведения — это вполне нормально. От него не ожидают оценочных суждений; оно именно что изучает, как что у поэта «работает» и какие где скрыты смыслы. И формирует канон. В этом, опять же, два журнала вполне совпадают: в каждом выпуске — негласный «поэт номера». В «Воздухе» — герой рубрики «Объяснение в любви»; в «Prosōdia» — тот, кому посвящен материал главного редактора и чей портрет украшает обложку. Ибо обязан критик называть «лучших поэтов», отбирать «пятьдесят лучших имен». Чья это мысль — Козлова или Кузьмина, догадайтесь сами.
В этом — точка схождения двух, на первый взгляд, разных изданий, и одновременно — суть моих расхождений с Козловым. При всей симпатии; поскольку — да, каждый человек в современной литературе, который что-то делает (как правило, почти бескорыстно), вызывает уважение. А делает Козлов немало. Не только пишет — стихи (интересные), прозу, критику. Еще издает журнал, пусть мне и не близкий. Фестивали организует, конкурсы. Снимаю шляпу. При этом не суетится, держится достойно.
Но позиция Козлова, отдающего критику на откуп филологии, представляется мне неполезной. А Козлову, соответственно, — моя. В которой он видит попытку «любительскими построениями» разрушить филологию. По его словам, «единственную школу, которая что-то понимает и хочет понимать в том, о чем он берется судить». «Хватит презрения к филологии».
Спешу успокоить: разрушать филологию пока не планирую. Поскольку, согласен, без филологического анализа критика не устоит и дня. Но не лучше будет и если критический разбор почти полностью сведется к филологическому. Равно как и только к философскому, только публицистическому… И так далее.
Но это сейчас и происходит. С одной стороны, литкритика смывается журналистикой, превращаясь в безликий поток микрорецензий и новостей. С другой — поглощается литературоведением. Не важно — радикальным или консервативным, результат один: вкусовая атрофия под вывеской научности, «понимания», «неангажированности». Узость дисциплинарных границ, не подвергаемых рефлексии, и нетерпимость ко всем, кто пытается эту рефлексию осуществить.
Статью свою Козлов заканчивает призывом «устранять границы, которые мешают двигаться дальше». Хороший призыв; полностью поддерживаю. Только давайте для начала не будем их искусственно возводить. Тогда и устранять нечего будет.
Но позиция Козлова, отдающего критику на откуп филологии, представляется мне неполезной. А Козлову, соответственно, — моя. В которой он видит попытку «любительскими построениями» разрушить филологию. По его словам, «единственную школу, которая что-то понимает и хочет понимать в том, о чем он берется судить». «Хватит презрения к филологии».
Спешу успокоить: разрушать филологию пока не планирую. Поскольку, согласен, без филологического анализа критика не устоит и дня. Но не лучше будет и если критический разбор почти полностью сведется к филологическому. Равно как и только к философскому, только публицистическому… И так далее.
Но это сейчас и происходит. С одной стороны, литкритика смывается журналистикой, превращаясь в безликий поток микрорецензий и новостей. С другой — поглощается литературоведением. Не важно — радикальным или консервативным, результат один: вкусовая атрофия под вывеской научности, «понимания», «неангажированности». Узость дисциплинарных границ, не подвергаемых рефлексии, и нетерпимость ко всем, кто пытается эту рефлексию осуществить.
Статью свою Козлов заканчивает призывом «устранять границы, которые мешают двигаться дальше». Хороший призыв; полностью поддерживаю. Только давайте для начала не будем их искусственно возводить. Тогда и устранять нечего будет.
В. Козлов. Ничья земля современной поэзии // Вопросы литературы. 2018. № 5.
Там же. С. 121.
Там же. С. 122.
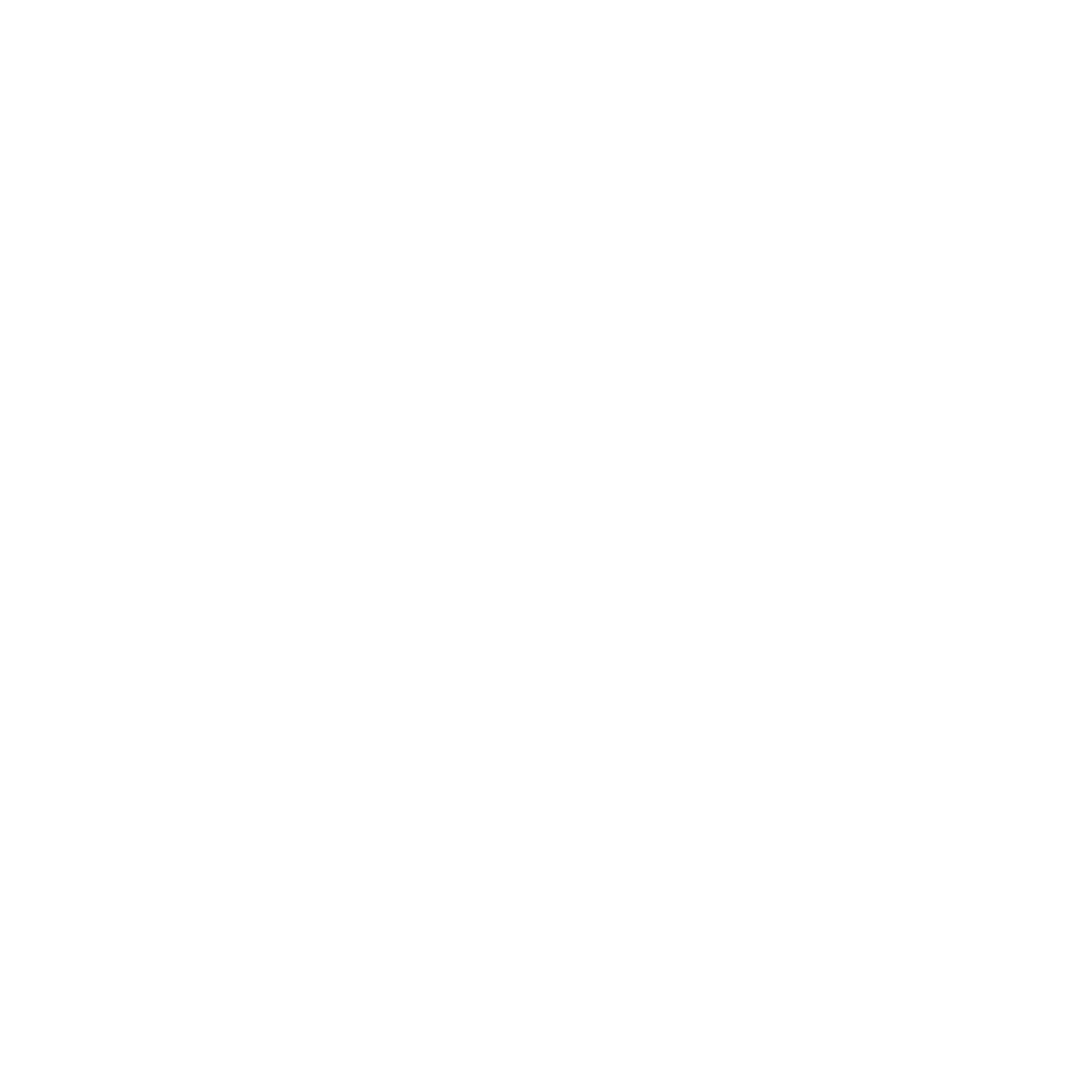
Анна Жучкова
Привычная жанровая система угасает. Все спуталось и обратно уже не распутается. Стихи и проза. Рассказ, роман и повесть. Кто отличит их теперь друг от друга? Но есть и хорошие новости. Сколько за последние годы хоронили роман, а он удивительным образом регенерирует и продолжает жить уже в каких-то труднопредставимых «рассыпающихся» формах. Сколько горевали, что нет большой книги о современности, между тем как современность решила себя выразить в рассказах, вернее даже в эскизах и зарисовках. То есть литература жива, а вот оптика наша устарела. Надо менять.
В. Козлов. Ничья земля современной поэзии // Вопросы литературы. 2018. № 5.
В. Козлов. Ничья земля современной поэзии // Вопросы литературы. 2018. № 5.
Провальны попытки поймать новое в фокус описания старого. Постмодернизм, этот чистильщик литературы, испробовав и посрамив все возможные варианты былого, освободил место для чего-то иного, нетерпеливо лезущего из плодородной почвы этнического (и социального) мифа ростком личностного, эгоцентрического «я»: я живу, я дышу, мне больно!
Значит, надо создавать классификацию жанров, где ведущими будут характеристики не внешние, а внутренние. И первый такой жанр, вырастающий изнутри автора и изнутри формирующий текст, уже есть. Это «роман в становлении», внешне похожий на сборник рассказов, но держащийся на внутренней тяге постепенного раскрытия личности автора. От просто сборника рассказов и от цикла рассказов, похожих на роман (Д. Новиков «Голомяное пламя», А. Чанцев «Желтый Ангус»), он отличается вектором динамической направленности: от изображения окружающей действительности в начале к самораскрытию автора в конце. «Роман в становлении» — воронка, втягивающая мир в лирическое «я» автора и выворачивающая его по авторскому образу и подобию.
Значит, надо создавать классификацию жанров, где ведущими будут характеристики не внешние, а внутренние. И первый такой жанр, вырастающий изнутри автора и изнутри формирующий текст, уже есть. Это «роман в становлении», внешне похожий на сборник рассказов, но держащийся на внутренней тяге постепенного раскрытия личности автора. От просто сборника рассказов и от цикла рассказов, похожих на роман (Д. Новиков «Голомяное пламя», А. Чанцев «Желтый Ангус»), он отличается вектором динамической направленности: от изображения окружающей действительности в начале к самораскрытию автора в конце. «Роман в становлении» — воронка, втягивающая мир в лирическое «я» автора и выворачивающая его по авторскому образу и подобию.
Произведения такого типа: Д. Бобылева «Вьюрки», К. Букша «Открывается внутрь», А. Горбунова «Вещи и ущи».
Дарья Бобылева считает, что ее «Вьюрки» — сериальный сезон: «каждый рассказ — «серия» со своим сюжетом и композицией, а все вместе серии формируют «сезон» с уже общим сюжетом и композицией. Это "матрешка" такая, и то, что серьезные люди, оказывается, спорят, роман это или не роман — ужасно смешно». Смешно не потому, что спорят, а потому, что это произведение относится к роману/нероману, как действительность к Зазеркалью, где разница не в форме, а в законах. Сериал — «современная форма шаманизма <…> задача шамана — не халтурить в улавливании душевных терзаний публики и путешествовать за ответами с полной самоотдачей». И потому во «Вьюрках» Дарья Бобылева ассоциирует себя с Полудницей — огневой мифологической девой, чья обида и страсть наполняют сюжет энергией. Полудница присутствует в книге с самого начала, затопляя ничего пока не подозревающие Вьюрки жаром летнего солнца. В рассказах героев появляется она в середине книги, и в своем истинном обличье — в конце. Между тем есть у Полудницы и отражение в мире людей — Катя, и сборник рассказов о вьюрковцах оказывается нанизан, как бусины, на нить Катиной судьбы. От ее выбора зависит, жить им или умереть.
Финал «Вьюрков» — драматическое утверждение абсолютной, ничем не детерминированной любви к людям вопреки ненависти, которой они заслуживают. Это личностная позиция самого автора. И хотя Дарья Бобылева всегда заявляет, что она не ритор, а транслятор, жанр «романа в становлении» позволяет ей транслировать и окружающее, и внутреннее одновременно.
Дарья Бобылева считает, что ее «Вьюрки» — сериальный сезон: «каждый рассказ — «серия» со своим сюжетом и композицией, а все вместе серии формируют «сезон» с уже общим сюжетом и композицией. Это "матрешка" такая, и то, что серьезные люди, оказывается, спорят, роман это или не роман — ужасно смешно». Смешно не потому, что спорят, а потому, что это произведение относится к роману/нероману, как действительность к Зазеркалью, где разница не в форме, а в законах. Сериал — «современная форма шаманизма <…> задача шамана — не халтурить в улавливании душевных терзаний публики и путешествовать за ответами с полной самоотдачей». И потому во «Вьюрках» Дарья Бобылева ассоциирует себя с Полудницей — огневой мифологической девой, чья обида и страсть наполняют сюжет энергией. Полудница присутствует в книге с самого начала, затопляя ничего пока не подозревающие Вьюрки жаром летнего солнца. В рассказах героев появляется она в середине книги, и в своем истинном обличье — в конце. Между тем есть у Полудницы и отражение в мире людей — Катя, и сборник рассказов о вьюрковцах оказывается нанизан, как бусины, на нить Катиной судьбы. От ее выбора зависит, жить им или умереть.
Финал «Вьюрков» — драматическое утверждение абсолютной, ничем не детерминированной любви к людям вопреки ненависти, которой они заслуживают. Это личностная позиция самого автора. И хотя Дарья Бобылева всегда заявляет, что она не ритор, а транслятор, жанр «романа в становлении» позволяет ей транслировать и окружающее, и внутреннее одновременно.
М.: АСТ, 2019.
Фейсбук Дарьи Бобылевой от 2 марта 2018 года.
«Создание сценариев — современная форма шаманизма, колдовство в чистом виде»: Лилия Ким о крупнейшем в мире собрании сценаристов StoryExpo // Cinemotion. 2015. 15 сентября.
Так же происходит в книге Ксении Букши «Открывается внутрь». Начинаясь с наблюдений над искаженным страданиями миром, она завершается монологом от первого лица. Судьбы героев включаются в цепь лирического напряжения, ведущего к авторскому «я», экзистенциальный автопортрет которого дан в последней главе: дихотомия должного и недолжного, своей и чужой вины — это то, что автор не может решить сам для себя, расширяя конфликт книги до соединения противоречий.
Ярче всего динамический переход от внешнего изображения к внутреннему обнажению, движение от социально-философской тематики к личностной проблематике представлен в книге Аллы Горбуновой «Вещи и ущи». Начиная с социально-философских зарисовок о третьих лицах, пронизанных ужасом бытия, писательница переходит к лирическому тексту про себя, приводя таким образом мало связанные между собой фрагменты разных вселенных и точек зрения на мир к общему знаменателю. Книга тематически разрозненных фантасмагорий скроена так, что не дает читателю остановиться, покуда он не дойдет до конца и не увидит абрис души самого автора, среди страха и ужаса «объективной реальности» — нежный, тонкий и светлый. В этом — ее кульминация и завершение.
Ярче всего динамический переход от внешнего изображения к внутреннему обнажению, движение от социально-философской тематики к личностной проблематике представлен в книге Аллы Горбуновой «Вещи и ущи». Начиная с социально-философских зарисовок о третьих лицах, пронизанных ужасом бытия, писательница переходит к лирическому тексту про себя, приводя таким образом мало связанные между собой фрагменты разных вселенных и точек зрения на мир к общему знаменателю. Книга тематически разрозненных фантасмагорий скроена так, что не дает читателю остановиться, покуда он не дойдет до конца и не увидит абрис души самого автора, среди страха и ужаса «объективной реальности» — нежный, тонкий и светлый. В этом — ее кульминация и завершение.
М.: Редакция Елены Шубиной. АСТ, 2018.
СПб.: Лимбус-Пресс, 2017.
Без образа души автора книга распадалась бы на не связанные между собой звенья.
Так — существует как единое и неделимое лирическое целое, ставящее вопрос о природе подлинной реальности и находящее ответ в реальности авторского «я»: «Дома здесь серые, сирые, косенькие, а заборы еще серее, сирее, косее. Людей мало, и кажется, будто хорошо и грустно тут жить, а за плетнем у озера тоненькая молодая рябинка чуть качается на ветру, и ягоды ее горят. И все в ней вдруг собралось — в этих ягодах, слишком ярких для этой невзрачной деревни: и прошлое мое и будущее собралось и отстранилось от меня».
Этим собиранием и оцельнением жанр «романа в становлении» отличается от «рассыпающегося романа», дробящего целое в осколках быта. «Роман в становлении» заново собирает реальность в фокусе авторского видения и одновременно решает еще одну важную задачу — находит героя, которым в современной литературе становится личность автора.
Этим собиранием и оцельнением жанр «романа в становлении» отличается от «рассыпающегося романа», дробящего целое в осколках быта. «Роман в становлении» заново собирает реальность в фокусе авторского видения и одновременно решает еще одну важную задачу — находит героя, которым в современной литературе становится личность автора.
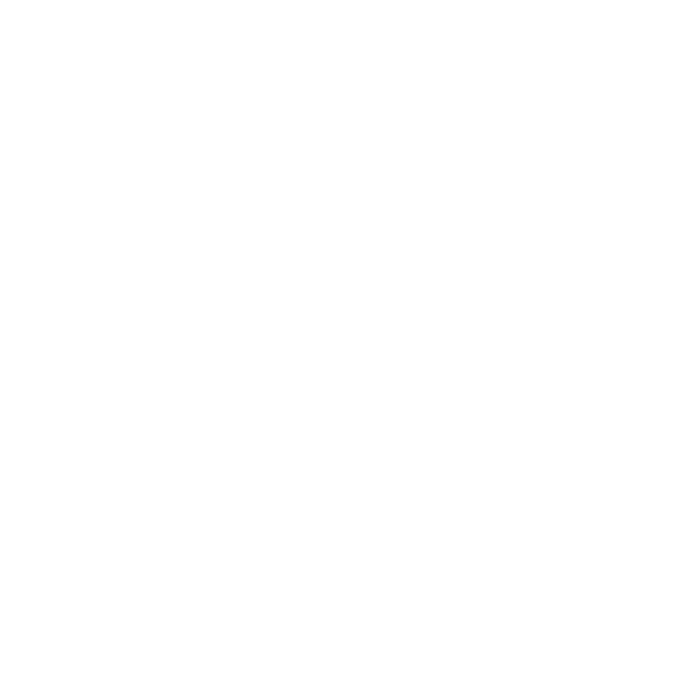
Артем Скворцов
Раздробление и таяние.
Вот две тенденции в нашем литературном пространстве, которые видятся сейчас наиболее влиятельными и злободневными.
Континент русской литературы увлеченно распадается на все большее количество островков, и они, в свою очередь, уменьшаются в размерах.
Откуда вдруг такие катастрофические настроения, спросит оптимист? Ведь число отдельных изданий ежегодно растет, проводятся книжные фестивали — от скромных региональных до изумляющей своим изобилием столичной ярмарки интеллектуальной литературы «Нон-фикшн», и даже краудфандинг для спасения утопавшего «Журнального зала» завершился досрочным финансовым триумфом.
Вот две тенденции в нашем литературном пространстве, которые видятся сейчас наиболее влиятельными и злободневными.
Континент русской литературы увлеченно распадается на все большее количество островков, и они, в свою очередь, уменьшаются в размерах.
Откуда вдруг такие катастрофические настроения, спросит оптимист? Ведь число отдельных изданий ежегодно растет, проводятся книжные фестивали — от скромных региональных до изумляющей своим изобилием столичной ярмарки интеллектуальной литературы «Нон-фикшн», и даже краудфандинг для спасения утопавшего «Журнального зала» завершился досрочным финансовым триумфом.
Да, все хорошо, прекрасная маркиза. Но, приглядевшись, можно увидеть иные события.
Вышел последний, сто первый по счету, номер поэтического журнала «Арион». Нынешний спонсор больше не намерен его поддерживать, а нового не нашли.
В подвешенном положении находятся одни из старейших «толстяков» — «Октябрь» и «Звезда», и дальнейшая их судьба неизвестна.
Отслеживающая эволюцию отечественного романа премия «Русский Букер» встала на паузу еще год назад, и место ее никто не занял.
Эпическая по размаху премия «Поэт» мутировала в подчеркнуто скромную «Поэзию», что само по себе кажется естественным этапом развития, но опубликованное положение о премии взывает много вопросов, из которых здесь зададимся одним: а по каким критериям жюри из ста человек будет выбирать, к примеру, лучшее стихотворение года?
Это к вопросу о таянии. А признаки раздробления видятся в том, что литераторы давно утратили вкус к публичным и заочным дискуссиям, прекратили бурные споры о прекрасном (или ужасном), разбрелись кто куда по своим площадкам, редакциям, сетевым ресурсам и, кажется, в большинстве своем вообще не очень интересуются, чем заняты соседи по общему литпространству.
Вышел последний, сто первый по счету, номер поэтического журнала «Арион». Нынешний спонсор больше не намерен его поддерживать, а нового не нашли.
В подвешенном положении находятся одни из старейших «толстяков» — «Октябрь» и «Звезда», и дальнейшая их судьба неизвестна.
Отслеживающая эволюцию отечественного романа премия «Русский Букер» встала на паузу еще год назад, и место ее никто не занял.
Эпическая по размаху премия «Поэт» мутировала в подчеркнуто скромную «Поэзию», что само по себе кажется естественным этапом развития, но опубликованное положение о премии взывает много вопросов, из которых здесь зададимся одним: а по каким критериям жюри из ста человек будет выбирать, к примеру, лучшее стихотворение года?
Это к вопросу о таянии. А признаки раздробления видятся в том, что литераторы давно утратили вкус к публичным и заочным дискуссиям, прекратили бурные споры о прекрасном (или ужасном), разбрелись кто куда по своим площадкам, редакциям, сетевым ресурсам и, кажется, в большинстве своем вообще не очень интересуются, чем заняты соседи по общему литпространству.
Да и сам факт существования подобной общности вызывает все больше сомнений. Нет сейчас ни такой премии, ни даже таких книг, которые могли бы — хотя бы на время — вовлечь в дискуссию многих, хороших и разных авторов, помочь сверить эстетические позиции.
Взглянем на результаты опросов по итогам литгода, проводимых рядом изданий. На вопрос о наиболее значимых именах-событиях сезона 10−20 экспертов могут ответить настолько вразброд, ухитрившись не пересечься ни в одной точке, что, порой, кажется, они существуют в разных культурных мирах. Оптимист снова увидит здесь повод для энтузиазма — налицо широта контекста и плюрализм мнений. Но как-то больше тянет вспоминать хрестоматийное: «Когда в товарищах согласья нет…».
А может быть, ни в чем друг с другом не сходящиеся авторы-читатели и правы. Прежде чем объединяться, надо размежеваться.
Что ж, продолжим расхождение. На этом пути нас ждет много интересного — и он явно не пройден до конца.
Взглянем на результаты опросов по итогам литгода, проводимых рядом изданий. На вопрос о наиболее значимых именах-событиях сезона 10−20 экспертов могут ответить настолько вразброд, ухитрившись не пересечься ни в одной точке, что, порой, кажется, они существуют в разных культурных мирах. Оптимист снова увидит здесь повод для энтузиазма — налицо широта контекста и плюрализм мнений. Но как-то больше тянет вспоминать хрестоматийное: «Когда в товарищах согласья нет…».
А может быть, ни в чем друг с другом не сходящиеся авторы-читатели и правы. Прежде чем объединяться, надо размежеваться.
Что ж, продолжим расхождение. На этом пути нас ждет много интересного — и он явно не пройден до конца.
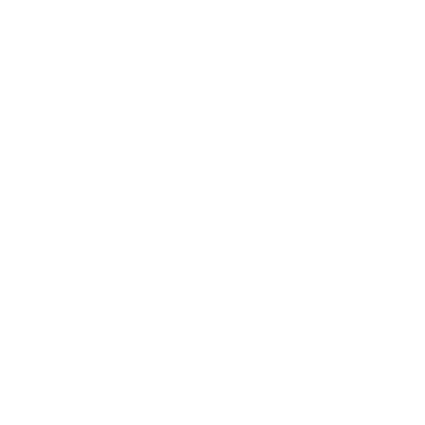
Екатерина Иванова
Литература вновь находится в глубоком кризисе. Признаки неблагополучия зловещи и вещественны: одно дело говорить о том, что критика, проза, поэзия, вечная любовь (нужное подчеркнуть) умерла, а другое дело констатировать исчезновение механизмов, которые на протяжении многих лет худо-бедно поддерживали литературный процесс. «Октябрь», «Арион», «Журнальный зал». Кто следующий?
Литературные журналы закрываются, потому что нет денег. Но изменения, которые происходят с современным культурным контекстом, гораздо глубже. Закрытие журнала — это падение дома, а причина в том, что началось землетрясение.
Литературные журналы закрываются, потому что нет денег. Но изменения, которые происходят с современным культурным контекстом, гораздо глубже. Закрытие журнала — это падение дома, а причина в том, что началось землетрясение.
Закрытие журнальных проектов — это часть более масштабного процесса. Видоизменяются литературные институции, не важно, будет ли это литературный журнал, премия, семинар или что-то еще, нужные для того, чтобы талант мог реализоваться.
Являются ли интернет-порталы, социальные сети и весь интернет-контент, которые вроде бы стремятся заменить традиционный «толстый» журнал, местом, где может реализоваться талант, где происходит подлинная встреча автора и читателя? И да, и нет.
Собственно, а почему бы и нет? Если выпуск журнала на бумаге — непозволительная роскошь, разве не логично, не нормально перенести то же самое содержание на другой носитель — в разы более дешевый, доступный в любой точке нашей страны и зарубежом безо всякой почты, снабженный гиперссылками и картинками?
Являются ли интернет-порталы, социальные сети и весь интернет-контент, которые вроде бы стремятся заменить традиционный «толстый» журнал, местом, где может реализоваться талант, где происходит подлинная встреча автора и читателя? И да, и нет.
Собственно, а почему бы и нет? Если выпуск журнала на бумаге — непозволительная роскошь, разве не логично, не нормально перенести то же самое содержание на другой носитель — в разы более дешевый, доступный в любой точке нашей страны и зарубежом безо всякой почты, снабженный гиперссылками и картинками?
Проблема, на самом деле, не в носителе информации, а в статусе этой самой информации в современном обществе. Проблема в том, что литература как способ времяпрепровождения стала никому не нужна, стала тяжела. Для трудолюбивого клерка среднего звена или кандидата каких-нибудь гуманитарных наук высокая литература, «мейнстрим» стала такой же непозволительной роскошью, как классический толстый журнал для современного литературного сообщества. Не хватает ресурсов. Вообще бы надо, да, но сил в конце рабочего дня хватает только на то, чтобы в очередной раз пролистать ленту фейсбука. Поэтому (в том числе и поэтому) от литературного текста требуют ненапряжности и развлекательности. Чтобы не слишком много букв, чтобы важные цитаты выделены курсивом или другим шрифтом… Чтобы остросюжетно и динамично. И опять-таки ничего плохого нет ни в динамичности сюжета, ни в легкости пера. Но при этом литература перестает быть носителем сложных мыслей, ценность мысли низводится до нуля, а на первое место в ценностном ряду ставится эмоция. «Просто», «доходчиво», «ненапряжно», «ржачно», «я плакал(а)» — вот секрет читательского успеха. Вот требования, которые предъявляют сегодня читатели, издатели и редакторы к любому «лонгриду» за пределами «толстожурнальной» культуры. И если журналы пройдут процесс перезапуска (а они его пройдут), то они с большой долей вероятности будут ориентированы на эти требования.
Хочу поддержать мысль Анны Жучковой, которую она изложила в первом номере «Легкой кавалерии»: кризис литературы неразрывно связан с изменением статуса информации. Информация больше не является ценностью. Совсем наоборот: информация в современном мире является опасностью. Потому что она бесконечна, а наши силы конечны: новостей много, а я одна. Большая книга становится маленькой строчкой на экране монитора. Выбирая между «Войной и миром» и «Игрой престолов», мы все чаще выбираем второе: включаем очередную серию какого-нибудь сериала и отдаемся во власть эмоциям. Например, «Звоните ДиКаприо». Шикарная история! Если бы у нас прозаики работали на таком же уровне, как сценаристы этого проекта, мейнстримная литература была бы спасена.
Разобравшись более или менее с вопросом «кто виноват?», мы можем обратиться к вопросу «что делать?». Другими словами, можно ли каким-то образом поднять престиж чтения, вернуть литературе то место в жизни общества, которое она занимала в нем традиционно на протяжении последних двухсот лет? Думаю, что любые предпринятые меры (курсив мой. — Е. Ф.), включая рекламу на ТВ и заклинания о том, что «читать — это модно», будут давать кратковременный и очень локальный результат. Нет, сейчас модно не читать, модно писать. Литературные журналы загибаются без дотаций и меценатской помощи, а всевозможные школы писательского мастерства и мастер-классы «для начинающих» и «продолжающих» являются прибыльным бизнесом.
Разобравшись более или менее с вопросом «кто виноват?», мы можем обратиться к вопросу «что делать?». Другими словами, можно ли каким-то образом поднять престиж чтения, вернуть литературе то место в жизни общества, которое она занимала в нем традиционно на протяжении последних двухсот лет? Думаю, что любые предпринятые меры (курсив мой. — Е. Ф.), включая рекламу на ТВ и заклинания о том, что «читать — это модно», будут давать кратковременный и очень локальный результат. Нет, сейчас модно не читать, модно писать. Литературные журналы загибаются без дотаций и меценатской помощи, а всевозможные школы писательского мастерства и мастер-классы «для начинающих» и «продолжающих» являются прибыльным бизнесом.
И эта любовь к писательству при отсутствии любви к чтению вполне объяснима. Наш мир заполонила информация, и нам хочется научиться ею управлять, нам хочется превратить ее из опасного объекта обратно в полезный ресурс.
А вот это как раз и есть то самое, что может сделать искусство, главным образом кино, но и литература тоже. Именно искусство может помочь нам отстоять свою целостность в противовес токсичному информационному контенту, потому что искусство — это то, что захватывает человека целиком, не оставляя ему внутреннего пространства для восприятия того, что «в интернете снова кто-то не прав».
Правда, еще лучше с этой задачей справляется религия. Но это уже совсем другая история.
Правда, еще лучше с этой задачей справляется религия. Но это уже совсем другая история.
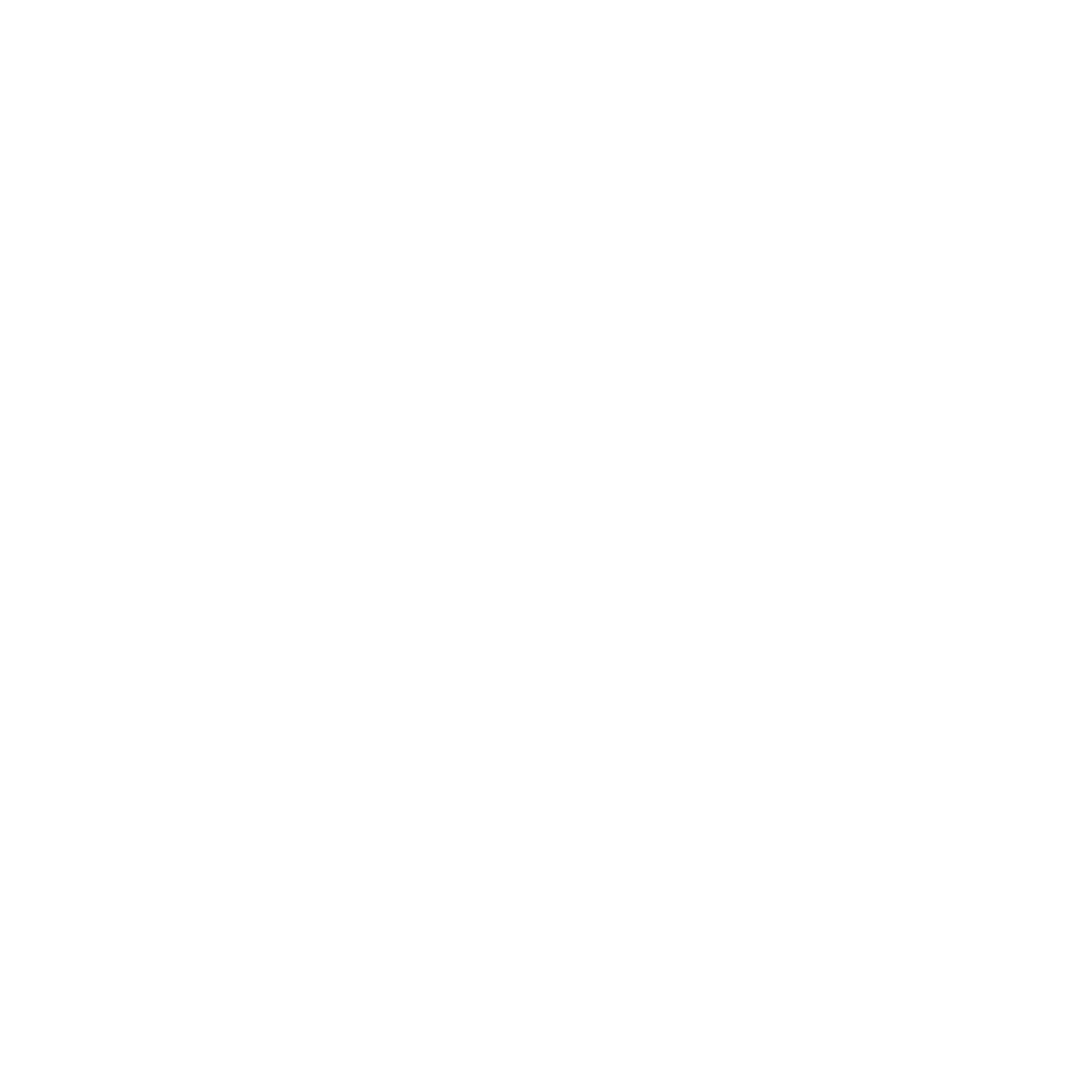
Игорь Дуардович
«"Упадничество" как жанр и как сюжет литературы 2010-х» – наверное, так бы я сформулировал тему, если бы писал статью. Об этом давно пора говорить, осмыслять, это ведь не только литература – это еще и преобладающее настроение эпохи (еще недавно наравне с ура-патриотизмом). Или хуже – черта сознания, ведь о том, что что-нибудь где-нибудь плохо, причем явно стало хуже, чем было вчера, – в стране, в культуре и т. д. – мы говорим постоянно. С возрастом, естественно, картина усугубляется. По словам ученых, это вообще свойство мозга – фиксация на отрицательном опыте, которая формирует соответствующее ожидание, дескать, предкам помогало выживать. В итоге забавно, что то, что было необходимо для жизни, сегодня превращает литературу в некрополь, населенный отчаявшимися ревенантами.
Мысли о гибели литературы и конце искусства, конечно, не новые. Вспомнить хотя бы «Умирание искусства» Владимира Вейдле, изданное в 1937 году в Париже, в эмиграции. Казалось бы, время достаточно яркое для искусства – тогда же Пикассо пишет «Гернику». Сомерсет Моэм закончил «Театр». Это время Бунина, Ахматовой, Пастернака, Булгакова, Кандинского и Рахманинова и других. Все это имена, названные наобум. Литература и искусство, однако, живы, а Вейдле давно нет.
Что касается 2010-х, то «упадничество» – не выдумка, это вовсе не игра воображения, а самому дискурсу уже лет двадцать, если не больше. В среде толстых журналов говорят о гибели журналов и об угрозе интернета все это время, однако умирать по-настоящему «толстяки» начали лишь сейчас – то есть двадцать лет они только готовились; или все-таки были попытки предотвратить катастрофу? Что и говорить, Рунету четверть века, а «Звезда» и «Октябрь» так и не обзавелись сайтами.
Кто-то сказал, что критика умрет последней и поэтому сможет констатировать смерть литературы.
Главные крики раздаются со стороны критиков. Кончилась поэзия! Кончилась драматургия! Кончилось кино! И даже критика сама! Роман Сенчин пишет о том, что обмельчали и перевелись критики, затем о том, как плохо в драматургии, наконец – о гибели художественной литературы. Все это только за начало этого года. Не знаю, насколько много Сенчину удается читать (тут бы фейсбук осилить (курсив И. Д. — Ред.)), однако давно заметил, что по факту самые читающие критики и самые позитивно мыслящие. Такие как Ольга Балла, Анна Жучкова или Валерия Пустовая. Кажется, что книгу еще не выпустили или даже она еще не закончена, а они ее уже прочли всю и написали статьи.
Что касается 2010-х, то «упадничество» – не выдумка, это вовсе не игра воображения, а самому дискурсу уже лет двадцать, если не больше. В среде толстых журналов говорят о гибели журналов и об угрозе интернета все это время, однако умирать по-настоящему «толстяки» начали лишь сейчас – то есть двадцать лет они только готовились; или все-таки были попытки предотвратить катастрофу? Что и говорить, Рунету четверть века, а «Звезда» и «Октябрь» так и не обзавелись сайтами.
Кто-то сказал, что критика умрет последней и поэтому сможет констатировать смерть литературы.
Главные крики раздаются со стороны критиков. Кончилась поэзия! Кончилась драматургия! Кончилось кино! И даже критика сама! Роман Сенчин пишет о том, что обмельчали и перевелись критики, затем о том, как плохо в драматургии, наконец – о гибели художественной литературы. Все это только за начало этого года. Не знаю, насколько много Сенчину удается читать (тут бы фейсбук осилить (курсив И. Д. — Ред.)), однако давно заметил, что по факту самые читающие критики и самые позитивно мыслящие. Такие как Ольга Балла, Анна Жучкова или Валерия Пустовая. Кажется, что книгу еще не выпустили или даже она еще не закончена, а они ее уже прочли всю и написали статьи.
Не является ли в таком случае «упадничество» признаком отставания или потери реального интереса, своеобразной литературной фрустрацией или формой пресыщенности и способом маскировки всего перечисленного?
Этот вопрос я задаю и самому себе, чего греха таить, ведь я тоже склонен к «упадничеству» – в отношении к поэзии.
Однако критиковать без позитивной программы безответственно. С другой стороны, мы забываем о разнице между словами и поступками, а также об экзистенциальной силе наших слов и мыслей. У писателей эта сила особенная. Скажу банальность, но в литературе все так плохо может быть только потому, что мы так думаем и говорим. Как только придут те, кто думает и говорит иначе (соответственно, и делает), ситуация тут же изменится в противоположную сторону. В этом отчасти я смог убедиться на одном из вечеров «Живых поэтов», который проходил с размахом рок-концерта – в полутьме, с прожекторами, пивом и толпой, в то время как это была презентация антологии современной поэзии, причем крайне хаотичной по содержанию, но зато оформленной по последнему слову пошлости.
И все-таки одно соображение по поводу внешних причин.
В 1973 году социальные психологи Джон Дарли и Дэниел Бэтсон, провели эксперимент, установив прямую зависимость между моралью и временем: «Спешка снижает уровень отзывчивости… нравственные ценности становятся роскошью, по мере того как возрастает скорость повседневной жизни» – вот главный вывод, ими сделанный. (На самом деле, намного раньше и, по сути, об этом же сказал Какудзо Окакура: «Человек безнравственен только потому, что он погружен в себя».) Такую же взаимосвязь я прослеживаю между искусством и временем (технологиями). Нужно просто заменить слова в законе Дарли – Бэтсона на соответствующие.
Скоро и само «упадничество» станет роскошью.
Однако критиковать без позитивной программы безответственно. С другой стороны, мы забываем о разнице между словами и поступками, а также об экзистенциальной силе наших слов и мыслей. У писателей эта сила особенная. Скажу банальность, но в литературе все так плохо может быть только потому, что мы так думаем и говорим. Как только придут те, кто думает и говорит иначе (соответственно, и делает), ситуация тут же изменится в противоположную сторону. В этом отчасти я смог убедиться на одном из вечеров «Живых поэтов», который проходил с размахом рок-концерта – в полутьме, с прожекторами, пивом и толпой, в то время как это была презентация антологии современной поэзии, причем крайне хаотичной по содержанию, но зато оформленной по последнему слову пошлости.
И все-таки одно соображение по поводу внешних причин.
В 1973 году социальные психологи Джон Дарли и Дэниел Бэтсон, провели эксперимент, установив прямую зависимость между моралью и временем: «Спешка снижает уровень отзывчивости… нравственные ценности становятся роскошью, по мере того как возрастает скорость повседневной жизни» – вот главный вывод, ими сделанный. (На самом деле, намного раньше и, по сути, об этом же сказал Какудзо Окакура: «Человек безнравственен только потому, что он погружен в себя».) Такую же взаимосвязь я прослеживаю между искусством и временем (технологиями). Нужно просто заменить слова в законе Дарли – Бэтсона на соответствующие.
Скоро и само «упадничество» станет роскошью.
From Jerusalem to Jerico: A study of situational and dispositional variables in helping behavior. Reading About the Social Animal. NY.: Freeman, 1995.
К. Окакура. Книга чая. Мн.: Харвест, 2002. С. 34.
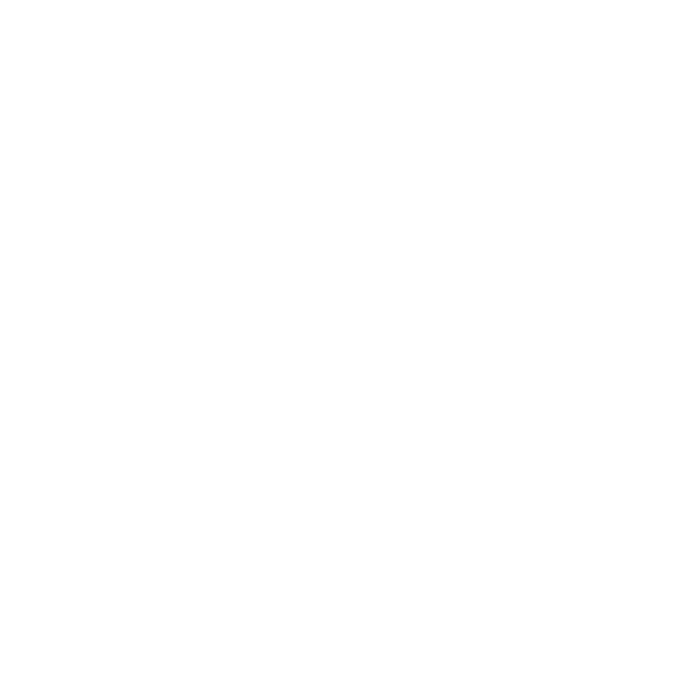
Олег Кудрин
Открытие автора, читаемого с радостью, автора, который не наскучивает и не разочаровывает, сродни научному открытию. Причем, в отличие от науки, тут совсем не обидно, если кто-то сделал это открытие до тебя.
Вот уже лет десять как молдавский русский поэт Юрий Гудумак печатается в российских «толстяках». Время, достаточное для того, чтобы к автору привыкли и отметили. Отрадно, что уже начали появляться серьезные разборы его «научной поэзии».
Должен сразу признаться, что Юрий Гудумак — мой сокурсник по геофаку. В студенческие годы мы приятельствовали. Потом лет на 30 потеряли друг друга. И лишь несколько лет назад я узнал, что «наш Юра — поэт». Большой, на мой взгляд, поэт. Решаюсь сказать, несмотря на подозрения в «коррупции дружбы».
Вот уже лет десять как молдавский русский поэт Юрий Гудумак печатается в российских «толстяках». Время, достаточное для того, чтобы к автору привыкли и отметили. Отрадно, что уже начали появляться серьезные разборы его «научной поэзии».
Должен сразу признаться, что Юрий Гудумак — мой сокурсник по геофаку. В студенческие годы мы приятельствовали. Потом лет на 30 потеряли друг друга. И лишь несколько лет назад я узнал, что «наш Юра — поэт». Большой, на мой взгляд, поэт. Решаюсь сказать, несмотря на подозрения в «коррупции дружбы».
К. Корчагин. Творческая эволюция / bis // Знамя. 2018. № 7.
Если бы энциклопедисты обладали поэтическим даром, могли читать и писать по-русски, жить в XXI веке, имели возможность ознакомиться с опытами Бродского и опытом постбродской поэзии, то… получились бы примерно такие стихи. Научная строгость в развитии мысли, свобода в форме, вкус. Гармоничная радость (вос)приятия, словно в античную пору неразделенного знания. И в наши времена раздробленного в пыль знания эти строки напоминают — то шепчут, то кричат — увлекательно и в прямом смысле поэтично, что мир, наш мир — цельный, бесконечно разнообразный и интересный.
Еще одно признание, почти неприличное — «датское». В начале января Гудумаку исполнилось 55. Его дата — по цифири. Он всегда был отличником, начитанным (иногда неожиданно) и неторопливо вдумчивым. Гитаристом, любящим рок-поэзию (не БГ, не Цоя, как можно было бы подумать, читая его нынешние строки, а прозрачного Макаревича) и стремительно вырастающим в своем понимании за ее пределы уже к второму-третьему курсу. Не суетным таким отличником, угловатым, не стремящимся быть круглым, краснодипломником. (Какой смысл в мебели от краснодеревщика, если текстура дерева прекрасно видна и без морилок?)
Еще одно признание, почти неприличное — «датское». В начале января Гудумаку исполнилось 55. Его дата — по цифири. Он всегда был отличником, начитанным (иногда неожиданно) и неторопливо вдумчивым. Гитаристом, любящим рок-поэзию (не БГ, не Цоя, как можно было бы подумать, читая его нынешние строки, а прозрачного Макаревича) и стремительно вырастающим в своем понимании за ее пределы уже к второму-третьему курсу. Не суетным таким отличником, угловатым, не стремящимся быть круглым, краснодипломником. (Какой смысл в мебели от краснодеревщика, если текстура дерева прекрасно видна и без морилок?)
Не решусь назвать Юру гением (места), но свое гениальное место — у него есть. Родная Яблона, неотделимая от его «я». Или, наоборот, в прямом, «довайлевском» смысле Гудумак сам стал genius loci родного села. И это его естественная, искренняя, персональная идеология бытия — без желания кому-то понравиться, выстраивая долгосрочную стратегию завоевания поэтического рынка. Кажется, что и слать тексты в российские журналы он стал лишь оттого, что в маленькой Молдове мало какие литературные издания смогли выжить в рыночных условиях.
Важно также происхождение, Юра — человек молдавского/румынского языка, благодаря ему открытый ко всем романским языкам (особенно любит французский). Русский же для него — остро чувствуемая (пост)советская латынь. А стихи на латыни, в том числе научные, — тоже ведь старая традиция.
Ну и спасибо географии — самой синтетической из наук. Пять лет обучения на любимом одесском геофаке стали воронкой, втянувшей будущего поэта. А дальше — «чем больше я знаю, тем больше не знаю». Он жадно узнает и щедро делится радостью познания. И узнавания. Это вообще самые счастливые моменты в его поэзии. Когда вдруг, читая описание строения ока какой-нибудь пичужки, ты видишь нечто новое в себе. Или, читая о пути, пролагаемом штурманом экспедиции, прозреваешь по поводу своих маршрутов.
«Я — везде!» — осознает читатель. Не выходя при этом за пределы своей личной Яблоны.
Важно также происхождение, Юра — человек молдавского/румынского языка, благодаря ему открытый ко всем романским языкам (особенно любит французский). Русский же для него — остро чувствуемая (пост)советская латынь. А стихи на латыни, в том числе научные, — тоже ведь старая традиция.
Ну и спасибо географии — самой синтетической из наук. Пять лет обучения на любимом одесском геофаке стали воронкой, втянувшей будущего поэта. А дальше — «чем больше я знаю, тем больше не знаю». Он жадно узнает и щедро делится радостью познания. И узнавания. Это вообще самые счастливые моменты в его поэзии. Когда вдруг, читая описание строения ока какой-нибудь пичужки, ты видишь нечто новое в себе. Или, читая о пути, пролагаемом штурманом экспедиции, прозреваешь по поводу своих маршрутов.
«Я — везде!» — осознает читатель. Не выходя при этом за пределы своей личной Яблоны.
Село в Молдавии.
Общепринято считается, что книга Петра Вайля «Гений места» художественно и убедительно показывает тесную связь одаренного человека с местом его жизни (и славы), их влияние друг на друга. «Довайлевский» смысл – это изначальное, классическое понимание словосочетания «гений места» (geniusloci) – дух-покровитель в античной римской мифологии того или иного конкретного места (деревни, горы, отдельного дерева).
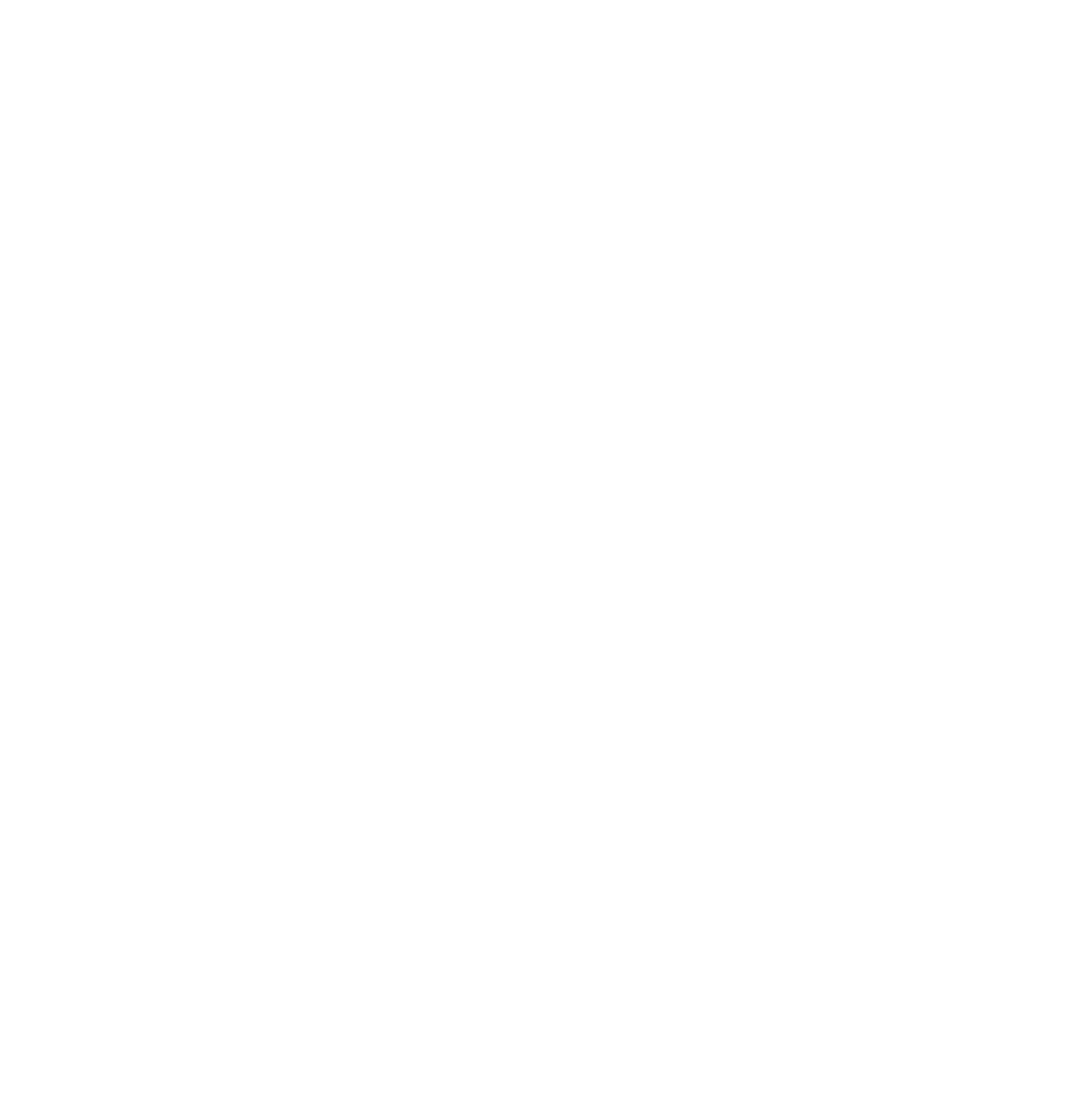
Константин Комаров
Эта мысль пришла ко мне давно, но только сейчас я отдал себе окончательный отчет в ее правильности. Мысль странная? и до поры до времени я ее очевидной странности даже побаивался. Теперь — нет.
Суть в том, что основным, глубинным, самым подлинным читателем стихов, по моему разумению, является не «идеальный» читатель, не «массовый» читатель, не «свой» читатель, не профессиональное сообщество, не «простой народ» и т. д.
Им являются сами стихи.
Я не вижу ничего страшного в писании «в стол». Стол как раз зачастую понимает, как никто другой. Вспомним хотя бы яростные цветаевские славословия в его адрес:
Суть в том, что основным, глубинным, самым подлинным читателем стихов, по моему разумению, является не «идеальный» читатель, не «массовый» читатель, не «свой» читатель, не профессиональное сообщество, не «простой народ» и т. д.
Им являются сами стихи.
Я не вижу ничего страшного в писании «в стол». Стол как раз зачастую понимает, как никто другой. Вспомним хотя бы яростные цветаевские славословия в его адрес:
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам (курсив К. М. — Ред.).
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам (курсив К. М. — Ред.).
Может, конечно, это ярость «от противного», от непечатания. Так и Высоцкому было мало его песенной славы и того, что он звучит из каждого окна, ему мучительно хотелось легитимироваться именно как поэту, мало было просто им быть. Может быть, я, конечно, ничего страшного в «столе» не вижу, потому что активно публикуюсь. Тем не менее мне кажется странным, что некоторые хорошие поэты бросают писать, например, из-за исчезновения своего референтного круга.
Но главное в том, что стихи пишутся сами в себя и сами себя читают, и процесс этот неостановим. Если где и кроется пресловутый perpetuum mobile, то именно здесь. Именно сотворчество со стороны самого создаваемого стихотворения — это основа пресловутого катарсиса, являющегося, по сути, мощнейшим ментальным оргазмом.
Стихи не для людей. И не для поэта. Они — для самих себя.
И знают они о себе гораздо больше их автора. И гораздо мудрей его. Профетичнее. Провиденциальнее. Иначе почему именно они рассказывают поэту, как ему жить и как умереть, программируют его судьбу?
Но главное в том, что стихи пишутся сами в себя и сами себя читают, и процесс этот неостановим. Если где и кроется пресловутый perpetuum mobile, то именно здесь. Именно сотворчество со стороны самого создаваемого стихотворения — это основа пресловутого катарсиса, являющегося, по сути, мощнейшим ментальным оргазмом.
Стихи не для людей. И не для поэта. Они — для самих себя.
И знают они о себе гораздо больше их автора. И гораздо мудрей его. Профетичнее. Провиденциальнее. Иначе почему именно они рассказывают поэту, как ему жить и как умереть, программируют его судьбу?
Когда-то Юрий Казарин поведал мне о трехчастной поэтической эволюции. Мне эта идея близка и сейчас: сначала ты пишешь стихи, потом стихи «пишут» тебя и только на последнем этапе — вы пишете друг друга. Многие поскальзываются на очень опасном промежутке между вторым и третьим этапом.
Понятно, что практика неизмеримо сложнее теории, что «древо жизни пышно зеленеет». И все-таки живое сообщение с творимым словом — это ядро процесса поэтического творчества.
Я рад и счастлив, что мои стихи читают сами себя. В этом смысле они и мои лучшие собеседники.
Не об этом ли думал Блок, сказавший однажды: «Поэт, задумавшийся о читателе, перестает быть поэтом»? Уже написанным стихотворением автор волен «распоряжаться» (кому читать / не читать, где публиковать / не публиковать etc.). Все равно это «распоряжательство» мнимое, фиктивное — текст уже живет своей жизнью в ноосфере. А вот если думаешь о читателе в самом процессе сочинения — конъюнктура неизбежна. Поэзия — дело уединенное. Кровавое. Мужское. Читатель — важнейшая фигура, но скорее в литературном процессе, а не в творческом.
Осознание этого дает мощный стимул перестать ныть о пресловутой утрате и без того мифического читателя. Онтологической катастрофы его отсутствие для поэзии не представляет. Для литературы — возможно.
И не есть ли история русской поэзии во многом историей стихотворений, читающих стихотворения? И не превращается ли сам поэт в стихотворение? Вопросы не праздные.
В общем, «цель поэзии — поэзия» — как говорил бессмертный в своем протеизме Пушкин.
На оригинальность сих измышлений не претендую. Но лично у меня — так.
Я рад и счастлив, что мои стихи читают сами себя. В этом смысле они и мои лучшие собеседники.
Не об этом ли думал Блок, сказавший однажды: «Поэт, задумавшийся о читателе, перестает быть поэтом»? Уже написанным стихотворением автор волен «распоряжаться» (кому читать / не читать, где публиковать / не публиковать etc.). Все равно это «распоряжательство» мнимое, фиктивное — текст уже живет своей жизнью в ноосфере. А вот если думаешь о читателе в самом процессе сочинения — конъюнктура неизбежна. Поэзия — дело уединенное. Кровавое. Мужское. Читатель — важнейшая фигура, но скорее в литературном процессе, а не в творческом.
Осознание этого дает мощный стимул перестать ныть о пресловутой утрате и без того мифического читателя. Онтологической катастрофы его отсутствие для поэзии не представляет. Для литературы — возможно.
И не есть ли история русской поэзии во многом историей стихотворений, читающих стихотворения? И не превращается ли сам поэт в стихотворение? Вопросы не праздные.
В общем, «цель поэзии — поэзия» — как говорил бессмертный в своем протеизме Пушкин.
На оригинальность сих измышлений не претендую. Но лично у меня — так.
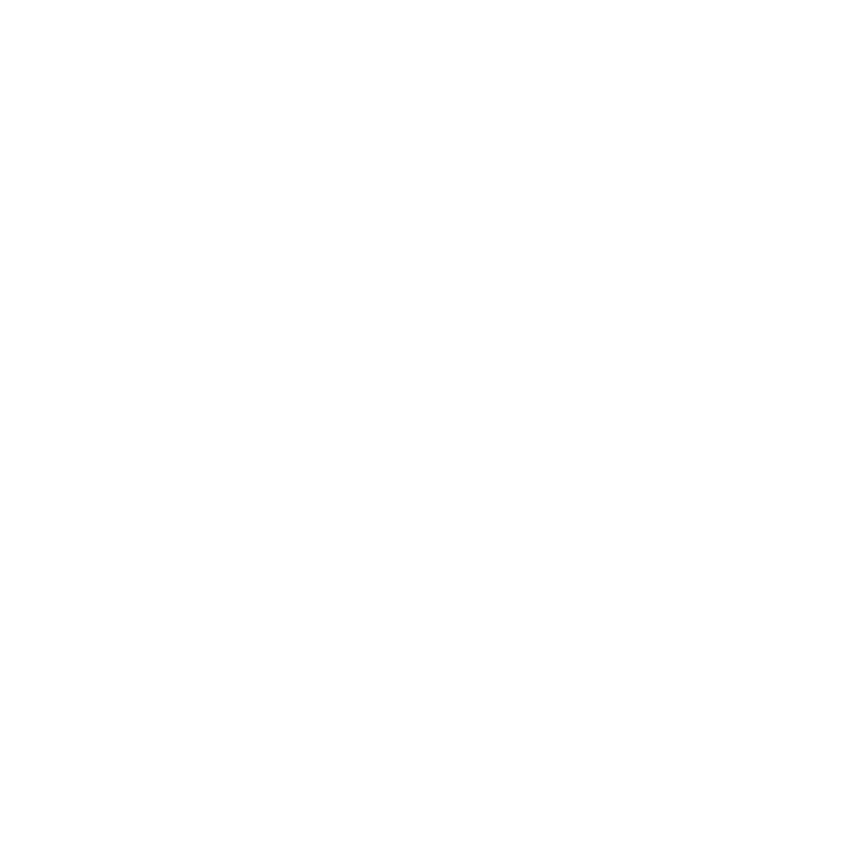
Елена Пестерева
Все умирает и все начинается вновь. Умирает «Журнальный зал» — и начинается вновь. Едва жив семинар молодых писателей СПМ, пару лет с трудом находит желающих приехать на семинары прозы, критики, драматургии, а потом вдруг большой конкурс, пансионат «Ершово», бассейн 25 метров и все такое. На ладан дышат «Вопросы литературы» — а потом приглашают на презентацию нового формата, делают человеческий сайт, открывают писательскую школу на легендарной крыше.
Удивительно, что сообщество, услыхав о смерти, чуть не криком кричит: катастрофа, дескать, всему конец. Услышав же о появлении чего бы то ни было — брезгливо морщится: поразвелось вас, порасплодились, понаехали. Это-де не издательство, не журнал, не редакция, не фестиваль. Это-де не проза, это — не критика.
Удивительно, что сообщество, услыхав о смерти, чуть не криком кричит: катастрофа, дескать, всему конец. Услышав же о появлении чего бы то ни было — брезгливо морщится: поразвелось вас, порасплодились, понаехали. Это-де не издательство, не журнал, не редакция, не фестиваль. Это-де не проза, это — не критика.
В «Стеклографе» вышла книга стихов Нади Делаланд «Мой папа был стекольщик» — вся неожиданно про старость и смерть. Неожиданно — для меня, я раньше не слышала, чтобы смерть как тема звучала так открыто, ясно, громко в ее стихах. Они были о любви, о боге, о мелкой жизни, об ощущении конечности всего — да, но не были так очевидно о смерти. О старости, о детстве, об ощущении тела как не своего, о натягивании тела на себя, о спадании тела, о том, что тело — не ты. О двух переходных возрастах — детстве и старости, о том, что начало жизни и конец ее — не все ли, в сущности, равно.
Вот первые строфы трех разных стихотворений из произвольных мест книги:
Вот первые строфы трех разных стихотворений из произвольных мест книги:
М.: Стеклограф, 2019.
…Ребенок с возрастом перестает нудить,
требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
понимает, что мамы нету, что он один,
что она умерла, что какие шутки…
требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
понимает, что мамы нету, что он один,
что она умерла, что какие шутки…
…Ляжешь, бывало, днем, до того устанешь,
под двумя одеялами и под тремя котами,
на большом сквозняке закрывая правое ухо,
так и спишь – то девочка, то старуха.
под двумя одеялами и под тремя котами,
на большом сквозняке закрывая правое ухо,
так и спишь – то девочка, то старуха.
…но жалость пересиливает все
когда сидит обиженный и толстый
подходит бесконечно близкий взрослый
и на руки берет несет несет
когда сидит обиженный и толстый
подходит бесконечно близкий взрослый
и на руки берет несет несет
Есть известная шведская писательница — Мария Грипе. С десяток ее книг из множества написанных выходили по-русски стараниями «Белой вороны» и Марии Людковской, в том числе — повесть «Дети стеклодува». В новой книге Делаланд есть и интонации Грипе, и сходство названий, и родство композиций, и само ощущение и детства, и старости как периодов, близких к небытию, — Грипе вообще детский писатель. Не знаю, сознательный ли это оммаж, или есть множество людей, кто, ощутив мучительную хрупкость человеческой жизни, потом уж пишут о ней как о стекле, о льде, о песке, видят в ней воду, воду, дождь, стрекозиные крылья — «цвести очень больно ужасно спокойно / и ваза прозрачна и тоже болит».
В общем, для одной заметки уже бы и достаточно. Но — редкий случай — хочется сказать еще. В середине февраля улан-удинский поэт Аркадий Перенов читал свои стихи в Библиотеке им. Лихачева на дальней станции метро «Щелковская». Читал свои сновидческие, сомнабулические, пророческие стихи с разодранной логикой и трудноуловимым синтаксисом, больше всего похожие на конспект шаманского путешествия.
В общем, для одной заметки уже бы и достаточно. Но — редкий случай — хочется сказать еще. В середине февраля улан-удинский поэт Аркадий Перенов читал свои стихи в Библиотеке им. Лихачева на дальней станции метро «Щелковская». Читал свои сновидческие, сомнабулические, пророческие стихи с разодранной логикой и трудноуловимым синтаксисом, больше всего похожие на конспект шаманского путешествия.
Говорил, «я просыпаюсь утром, открываю фейсбук, пишу в окошке "Итыгелов" и записываю стихотворение таким, какое оно есть, вот такое огромное, тяжелое, безобразное, с длиннотами, с провалами».
В зале было десять человек. Он рассказывал им о том, как великий бурятский поэт Дондок Улзытуев шел по берегу Байкала с ведром водки в правой руке и ковшом в левой, каждому встречному предлагал испить водки из ковша, а тех, кто отказывался, бил ковшом по лбу. Он читал Намжила Нимбуева и совсем новые московские стихи бесконечного фейсбучного цикла «Итыгелов».
Они спрашивали его: кто повлиял на его творчество? Перенов говорил, «Гэсэр», конечно, и группа «Кирпичи», Кантемир, Боратынский, Батюшков, и, конечно, Монеточка. А Хаски — нет, и Децл тоже, при всем уважении, нет.
Они спрашивали, почему он в Москве? Перенов говорил, «учусь у моего мастера Виктора Куллэ стихосложению в Литературном институте. Он разносит мои стихи в пух и прах. Но на самом деле Булат мне пишет каждый день: сиди, сиди в Москве!».
Они спрашивали его, почему он не пишет на родном языке. Он улыбался и говорил, что, конечно, пишет, что это сейчас были переводы с родного языка на русский.
Читал стихи давнего 1988 года. Просил оставить ему на могильном камне написанную в 1998 году «Дженис»:
Они спрашивали его: кто повлиял на его творчество? Перенов говорил, «Гэсэр», конечно, и группа «Кирпичи», Кантемир, Боратынский, Батюшков, и, конечно, Монеточка. А Хаски — нет, и Децл тоже, при всем уважении, нет.
Они спрашивали, почему он в Москве? Перенов говорил, «учусь у моего мастера Виктора Куллэ стихосложению в Литературном институте. Он разносит мои стихи в пух и прах. Но на самом деле Булат мне пишет каждый день: сиди, сиди в Москве!».
Они спрашивали его, почему он не пишет на родном языке. Он улыбался и говорил, что, конечно, пишет, что это сейчас были переводы с родного языка на русский.
Читал стихи давнего 1988 года. Просил оставить ему на могильном камне написанную в 1998 году «Дженис»:
Пандито Хамбо-лама XII Даши-ДоржоИтыгелов – буддистский подвижник, чье тело, с 1927 года нетленное, находится в Иволгинском дацане.
Булат Аюшеев – поэт, главный редактор литературного журнала «Байкал».
Ушла навсегда, оставив печалиться многих любивших тебя,
Цыганщину завернув в алый шелк.
Потерялись, как дети.
Роемся в одеждах на лотках секонд-хенда,
Все ищем бусы, Дженис, твои и платье.
Цыганщину завернув в алый шелк.
Потерялись, как дети.
Роемся в одеждах на лотках секонд-хенда,
Все ищем бусы, Дженис, твои и платье.
Потом мы пили чай в библиотеке (вы заметили, что пьют теперь почти всегда только чай, кофе вечером вреден, водки ковшом уже не зачерпнешь), и Антон Очиров, бывший среди тех десяти слушателей, читал короткий триптих из 2007 года, когда президент еще целовал младенцев в пупок, — «выходи на этой остановке…».
Начиная «Кавалерию», мы договаривались, что это эссеистика, заметки, блогерство. Сами так стыдливо прятали глаза, мол, «это не трубка». Критика — это полноценное художественное высказывание. Так что это — критика. Теперь она такая.
Кроме того, мы договаривались писать о том, что показалось самым важным, ярким, значимым за короткий период времени. Вот это и показалось: эти хрупкость и камерность, уязвимость и близость, эта нестерпимая нежность, это острое проживание жизни на фоне смерти. Если литература рассыпается на крохотные осколки — это не значит, что она мельчает. Если тело рассыпает на H, O, Si, Li, Mg, Ca, K, Na — это не про смерть. Это не трубка.
Начиная «Кавалерию», мы договаривались, что это эссеистика, заметки, блогерство. Сами так стыдливо прятали глаза, мол, «это не трубка». Критика — это полноценное художественное высказывание. Так что это — критика. Теперь она такая.
Кроме того, мы договаривались писать о том, что показалось самым важным, ярким, значимым за короткий период времени. Вот это и показалось: эти хрупкость и камерность, уязвимость и близость, эта нестерпимая нежность, это острое проживание жизни на фоне смерти. Если литература рассыпается на крохотные осколки — это не значит, что она мельчает. Если тело рассыпает на H, O, Si, Li, Mg, Ca, K, Na — это не про смерть. Это не трубка.

Санджар Янышев
привет!
эти курсы для тебя, эти курсы бесплатны,
эти курсы помогут тебе в жизни.
на этих курсах ты пройдешь через все круги ада и унижения,
тебя кинут, бросят, предадут,
на этих курсах тебе сделают так больно — как никто не делал,
записывайся к нам, у нас настоящие мастера…
Из стихотворения Максима Матковского
Знакомый поэт потерял работу и включил статус «в поиске». Он никогда не состоял в соцсетях и потому ни разу не привлекался по своим убеждениям ни к какому ответу. Сегодня если у тебя нет аккаунта, то нет и убеждений. Ловили его, ловили наши сети — да наконец поймали. Поэт завел страничку в фейсбуке, где анонсировал Литературные Курсы.
эти курсы для тебя, эти курсы бесплатны,
эти курсы помогут тебе в жизни.
на этих курсах ты пройдешь через все круги ада и унижения,
тебя кинут, бросят, предадут,
на этих курсах тебе сделают так больно — как никто не делал,
записывайся к нам, у нас настоящие мастера…
Из стихотворения Максима Матковского
Знакомый поэт потерял работу и включил статус «в поиске». Он никогда не состоял в соцсетях и потому ни разу не привлекался по своим убеждениям ни к какому ответу. Сегодня если у тебя нет аккаунта, то нет и убеждений. Ловили его, ловили наши сети — да наконец поймали. Поэт завел страничку в фейсбуке, где анонсировал Литературные Курсы.
Поэт очень верно уловил главный тренд эпохи. Люди, у которых есть еще куры, которым есть что клевать, эти люди хотят учиться. Остальные, тряхнув пустой мошной, лихорадочно соображают: чему и кого они могут научить. Бесконечные вебинары по сценарному искусству, лайфхаки в режиме онлайн и workshop'ы, литературные курсы вообще (курсив С. Я. — Ред.) — на манер советских ЛИТО, литинститутских семинаров и «легендарных липок» (в одной из них, народившейся год назад и получившей рискованную аббревиатуру ЗШП, удалось поворкшопить и мне); и спецшколы, подвизавшиеся при каком-нибудь печатном органе (например, при журнале «Русский пионер» или вот с нынешней весны — на базе «Вопросов литературы»); и — эксклюзивно-специфические, вроде литературных игр для детей/подростков в творческой мастерской Анны Старобинец с последующим изданием рукотворной книги. В той же мастерской, кстати, обучают среди прочего писать посты в соцсетях (сторителлинг (курсив С. Я. — Ред.) как подвид эссеистики) — и это здОрОво, поскольку очень точно означивает вектор смещения современной литературы в указанную сторону. Социальные сети — это, выражаясь лого-рифмами товарища Саахова, разом — и кузница, и житница, и здравница современного литературного процесса.
Однако вернемся к школе как старому/новому средству существования литераторов. Кажется, бесплатные богадельни a-ля советские кружки при домах пионеров окончательно му<зеи>мифицировались. Хочется добавить: вместе с толстыми журналами (как институцией) — но об этом, кажется, не написал на сегодняшний день только я.
Теперь все видные литераторы города Москвы разделены уже не только потаенными критериями вроде «его зовут на литфестивали, а меня не зовут» или — «тебя напечатал "Новый мир", зато я любимый автор "Сибирских огней"». Появился новый, еще более тайный, критерий: ведешь ли ты где-нибудь на хозрасчетных условиях какие-нибудь курсы — или не ведешь.
Пишу все это не затем вовсе, чтоб обнажить стяжательское нутро наших литераторов. С монетизацией литературного труда у нас как с диетой: если человеку не платить, он работает за совесть; если платить — на совесть. Просто кризис в стране, оказавшийся затяжным, породил новое предложение на рынке услуг, которое породило красивый тренд: рукопись продать нельзя, а собственный символический капитал — можно. Частями. Литератор же, не нуждающийся в деньгах (такое тоже случается!), по-прежнему испытывает потребность быть в тренде. Быть в «пуле» — среди пасущих, а не пасомых. Среди оплачиваемых, а не платящих. Среди упомянутых, а не забытых.
Теперь все видные литераторы города Москвы разделены уже не только потаенными критериями вроде «его зовут на литфестивали, а меня не зовут» или — «тебя напечатал "Новый мир", зато я любимый автор "Сибирских огней"». Появился новый, еще более тайный, критерий: ведешь ли ты где-нибудь на хозрасчетных условиях какие-нибудь курсы — или не ведешь.
Пишу все это не затем вовсе, чтоб обнажить стяжательское нутро наших литераторов. С монетизацией литературного труда у нас как с диетой: если человеку не платить, он работает за совесть; если платить — на совесть. Просто кризис в стране, оказавшийся затяжным, породил новое предложение на рынке услуг, которое породило красивый тренд: рукопись продать нельзя, а собственный символический капитал — можно. Частями. Литератор же, не нуждающийся в деньгах (такое тоже случается!), по-прежнему испытывает потребность быть в тренде. Быть в «пуле» — среди пасущих, а не пасомых. Среди оплачиваемых, а не платящих. Среди упомянутых, а не забытых.
…Так вот, пишу — чтоб рассказать о том, как, в пику маловерным, по сей день кривящим рот при упоминании гумилевского «Цеха поэтов», школы и студии, подобные вышеназванным, приносят подчас плоды — к общему нашему литературному «столу». Мне в руки — в силу разных обстоятельств — попал рукописный (пока) сборник короткой прозы… Назовем его «Твист». Сборник готовится к изданию в одном из главных наших издательств, ближе к осени вылупится. 75 рассказов от 75 авторов. Все «молодые»; ни одно имя до «Твиста» мне знакомо не было.
Что, помимо формата, их объединяет? Все они — выпускники и учащиеся CWS, школы писательского мастерства, придуманной Майей Кучерской. Все они — победители конкурса короткого современного рассказа (заявок было в три раза больше).
Имен называть не буду — пусть это сделает тот, кто возьмется рецензировать сборник, когда, красивый и ароматный, «Твист» ляжет или встанет на прилавки книжных магазинов. Но масштаб — количество рассказчиков плюс показанный ими класс — впечатляют. Каждый рассказ с легкостью пройдет через слуховое окно любого серьезного журнала — хоть «Знамени», хоть «Сноба». Если школа чему-то учит, то эти вот семьдесят пять — научились; по-моему, прекрасный результат.
Несколько беглых (бессистемных) соображений по прочтении «Твиста».
Прежде считалось: пишущий стихотворение фиксирует чувство — эмоциональный отклик на событие; пишущий прозу рассказывает историю. С какого-то времени все перемешалось. Теперь роман может запросто оказаться «приключением языка», а стишок — «учебником нарратологии». И лишь короткий рассказ (short story) остается самим собой. «Вот был такой случай…»
Несколько беглых (бессистемных) соображений по прочтении «Твиста».
Прежде считалось: пишущий стихотворение фиксирует чувство — эмоциональный отклик на событие; пишущий прозу рассказывает историю. С какого-то времени все перемешалось. Теперь роман может запросто оказаться «приключением языка», а стишок — «учебником нарратологии». И лишь короткий рассказ (short story) остается самим собой. «Вот был такой случай…»
Еще. Новейшая хоррор-драма «Призраки дома на холме» на протяжении десяти серий повествует о том, что нельзя путать детскую фантазию с загробным миром, куда ребенок вхож — как линдгреновский Малыш в домик живущего на крыше моторизованного призрака («в мире сказок тоже люби булочки», да). «Твист» показывает, что фантастика и виртуальность суть одно. Нет, конечно, Борхес эту тему обозначил еще в конце 1930-х, однако соответствующий «мардонг», говоря языком Пелевина, окончательно сложился только сейчас.
И напоследок. Кажется, соотношение м. и ж. в литературе изменилось прочно и бесповоротно, а вот в чью пользу — соображайте сами; скажу лишь, что в «Твисте» оно составляет примерно 1:4 (прописью: один к четырем!).
Пока все.
А другу своему поэту я искренно желаю успеха — и ему, и тем, кого он рекрутирует под гарантию собственного (весомого, не сомневайтесь!) символического капитала.
И напоследок. Кажется, соотношение м. и ж. в литературе изменилось прочно и бесповоротно, а вот в чью пользу — соображайте сами; скажу лишь, что в «Твисте» оно составляет примерно 1:4 (прописью: один к четырем!).
Пока все.
А другу своему поэту я искренно желаю успеха — и ему, и тем, кого он рекрутирует под гарантию собственного (весомого, не сомневайтесь!) символического капитала.

Игорь Савельев
Издательство «Эксмо» выпустило книгу с замечательным комментарием. В «Безмолвном пациенте» Алекса Михаэлидеса, на странице 102, помещена такая сноска: «Здесь и далее (курсив редакции издательства. — Ред.) редакция сочла возможным оставить в тексте упоминания о приеме персонажами наркотических средств, поскольку в контексте данного романа это не несет позитивного характера». По иронии судьбы это помещено аккурат под строчками: «Вскоре я курил "травку" ежедневно. Марихуана стала моим лучшим другом, источником вдохновения и утешением. Свернуть, облизнуть, поджечь…». Так что это компактно: как раз для квадратного мема в инсте или фейсбуке. Собственно, в окололитературном фейсбуке это и появилось: прозаик Алена Чурбанова сфотографировала и опубликовала, а из коммента поэта и критика Льва Оборина я, человек темный, узнал, что это уже и обсуждалось тусовкой, и сноска-то уже не первая.
М.: Эксмо, 2019.
Что тут скажешь? Можно, конечно, филологически пошутить, как вся советская литература, выдыхая с облегчением, запестрела бы сносками в духе «Здесь и далее высказывания героев-белогвардейцев не несут позитивного характера» (впрочем, публикация «Повести непогашенной луны» в «Новом мире» примерно таким предисловием и сопровождалась, и это не спасло ни Пильняка, ни Гронского, ни Воронского). Можно трактовать это так, что книгоиздание вынуждено подстраиваться под череду цензурных законов последних пяти лет (и последний из них, хотя вряд ли последний, еще заставит писать примечания, что «суждения персонажа не являются актом оскорбления власти»). А можно — так, что мы позволяем ровно то, что позволяем, и, размягчая такими вот сносочками породу, сами же помогаем буру ввинчиваться все глубже и глубже.
Как автор, у которого на заре новейшего законотворческого бума выпускалась серия в «Эксмо», могу свидетельствовать — как все это происходило. В 2015 году я впервые познал то, что на сленге издателей называлось волшебным словом «целлофанирование». Все это было в диковинку и, в общем, по приколу: и пленка, в которую был закатан очередной роман, и большая, как медаль за заслуги, блямба «18+» на обложке. Хотя последняя немного смутила чуть позже, когда знакомая критик обиделась за меня в статье: мол, почему — аршинными буквами по окружности «медали» — надпись: «Содержит нецензурную брань»? Почему даже не «обсценную лексику», что это вообще за подзаборный контекст? Тут я впервые призадумался, а прогнав "поиском" основные матерные корни по тексту романа, — убедился, что и брани-то в нем нет: есть слово «сука» два раза. Но дело было и не в "суке". Оказалось проще закатать в целлофан и в «нецензурную брань» весь сегмент такого рода серий оптом, чем разбираться с каждым конкретным случаем — кого из адептов новых законов что и как может оскорбить. Поля сражений оставлялись без боя. Противник даже не показался на горизонте.
Как автор, у которого на заре новейшего законотворческого бума выпускалась серия в «Эксмо», могу свидетельствовать — как все это происходило. В 2015 году я впервые познал то, что на сленге издателей называлось волшебным словом «целлофанирование». Все это было в диковинку и, в общем, по приколу: и пленка, в которую был закатан очередной роман, и большая, как медаль за заслуги, блямба «18+» на обложке. Хотя последняя немного смутила чуть позже, когда знакомая критик обиделась за меня в статье: мол, почему — аршинными буквами по окружности «медали» — надпись: «Содержит нецензурную брань»? Почему даже не «обсценную лексику», что это вообще за подзаборный контекст? Тут я впервые призадумался, а прогнав "поиском" основные матерные корни по тексту романа, — убедился, что и брани-то в нем нет: есть слово «сука» два раза. Но дело было и не в "суке". Оказалось проще закатать в целлофан и в «нецензурную брань» весь сегмент такого рода серий оптом, чем разбираться с каждым конкретным случаем — кого из адептов новых законов что и как может оскорбить. Поля сражений оставлялись без боя. Противник даже не показался на горизонте.
Предисловие, однако, совсем о другом: о том, что повесть не претендует на документ. — Ред.
Мы продолжаем превентивно отступать, и доотступались до литературоведческих сносок «Не несет позитивного характера». Что дальше?
Как ни странно, дальше это может стать «точкой роста» для того сегмента, который в современной русской литературе исчезающе мал. Это поэзия как-то окрепла на многих опорах, и ее конструкция, «технология» в целом выглядит так же, как в других странах с развитой поэтической традицией: много маленьких издательских проектов, фестивальная и эстрадная активности, важная роль традиционных журнальных и новейших интернет-проектов. Проза же — это гиганты-монополисты, а то, что пробивается в их тени, скудно до заведомой маргинальности и не дорастает не то что до «книжного рынка», но даже и до «литературного процесса» вне его каких-то катакомбных форм.
Но пока монополии отступают и отступают перед призрачной пропагандой наркотиков, гомосексуальности, бродяжничества, искажениями истории, оскорблениями власти, распространением фейковых новостей etc., etc. — и что там еще завтра досыплют в этот бульон, — маленькие независимые проекты живут каким-то образом в мире, где ничего этого нет. Можно по-разному относиться к тому, что делают как издатели Вадим Левенталь, Роман Сенчин, Евгений Алехин, Артем Фаустов, Вадим Месяц, команды «Носорога», «Фаланстера» и другие, и другие, но очевидно, что для этих проектов вопрос выбора такого рода даже не ставится, более того, внесистемность делает их неуловимыми для цензурной оптики.
Как ни странно, дальше это может стать «точкой роста» для того сегмента, который в современной русской литературе исчезающе мал. Это поэзия как-то окрепла на многих опорах, и ее конструкция, «технология» в целом выглядит так же, как в других странах с развитой поэтической традицией: много маленьких издательских проектов, фестивальная и эстрадная активности, важная роль традиционных журнальных и новейших интернет-проектов. Проза же — это гиганты-монополисты, а то, что пробивается в их тени, скудно до заведомой маргинальности и не дорастает не то что до «книжного рынка», но даже и до «литературного процесса» вне его каких-то катакомбных форм.
Но пока монополии отступают и отступают перед призрачной пропагандой наркотиков, гомосексуальности, бродяжничества, искажениями истории, оскорблениями власти, распространением фейковых новостей etc., etc. — и что там еще завтра досыплют в этот бульон, — маленькие независимые проекты живут каким-то образом в мире, где ничего этого нет. Можно по-разному относиться к тому, что делают как издатели Вадим Левенталь, Роман Сенчин, Евгений Алехин, Артем Фаустов, Вадим Месяц, команды «Носорога», «Фаланстера» и другие, и другие, но очевидно, что для этих проектов вопрос выбора такого рода даже не ставится, более того, внесистемность делает их неуловимыми для цензурной оптики.
Если эта оптика вообще — для литературы — есть.
В прошлом году мне случилось участвовать в подготовке доклада о фактах цензуры в искусстве в 2017—2018 годах, и общая картина выглядела любопытно. В большинстве сфер, таких как кинематограф и театр, цензурные действия связаны в основном с оперированием господдержкой. Элементы цензуры «в чистом виде» вне этого — такие как, например, отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» — редкость. В книгоиздании и книжной торговле, сколько бы «взрослые» ни перестраховывались с целлофаном и примечаниями, проблемы пока случаются только в одном сегменте — в так называемой подростковой литературе. И практически все попавшие в доклад случаи можно трактовать скорее как самоцензуру — действия издателей или книготорговых сетей в ожидании, что вот-вот дверь начнет пинать Роскомнадзор, или кто там, прокуратура.
Но Роскомнадзор так и не пришел.
Обратите внимание на эту деталь.
Но Роскомнадзор так и не пришел.
Обратите внимание на эту деталь.

Евгения Коробкова
У Михаила Светлова юбилей — не праздник, не что-либо еще.
Предупреждаю сразу, что доказательств нет и все, что я напишу ниже, — всего лишь интерпретация его стихотворений, и когда я попыталась проверить свою догадку и обратилась в библиотеку Светлова, то была грубо погнана оттуда ссаными тряпками под крики: «Как вы можете! На участника войны! А знаете, сколько у него женщин было!»
Речь пойдет о военной лирике Михаила Светлова, а прежде всего — о стихотворении «В разведке», написанном в 1927 году.
Предупреждаю сразу, что доказательств нет и все, что я напишу ниже, — всего лишь интерпретация его стихотворений, и когда я попыталась проверить свою догадку и обратилась в библиотеку Светлова, то была грубо погнана оттуда ссаными тряпками под крики: «Как вы можете! На участника войны! А знаете, сколько у него женщин было!»
Речь пойдет о военной лирике Михаила Светлова, а прежде всего — о стихотворении «В разведке», написанном в 1927 году.
Рекомендую послушать это стихотворение в качестве песни на музыку Микаэла Таривердиева в исполнении Алены Свиридовой или дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко.
В двух словах сюжет такой. Двое отправились в разведку, попали в перестрелку и предпочли умереть, чем сбежать.
Не у одной меня абсолютно все в этом стихотворении вызывало вопросы. Во-первых, самое начало: «Поворачивали дула / В синем холоде штыков». Какие такие дула и куда поворачивали? Почему орудия дальнего боя соседствуют со штыками, оружием ближнего боя? Почему стихотворение выдержано в подчеркнуто синих тонах: синий холод штыков, звезды, льющие «синий свет свой»?
С каким «мужиком» идет в разведку автор, почему мужик не говорит «по-русски», почему неожиданно их внимание привлекает «Меркурий»? И почему атмосфера стихотворения подчеркнуто не военная, а какая-то влюбленно-романтичная: «Тихо-тихо… / Редко-редко / Донесется скрип телег. / Мы с утра ушли в разведку, / Степь и травы — наш ночлег», «Наши кони шли понуро, / Слабо чуя повода, / Я сказал ему: — Меркурий/ Называется звезда».
Нет, это не война. Это пастораль, это романтическая прогулка двух влюбленных. Ослабленные поводья коней, значит, двое держатся за руки, целое поле, постеленное им для ночлега (сравните: "Я поля влюбленным постелю" Высоцкого).
Занимательно и само упоминание Меркурия, выглянувшего «из-за облаков». Первый, очевидный смысл, согласно греческой мифологии, Меркурий — проводник душ, посредник между жизнью и смертью, что соотносится с темой стихотворения и смертью двух главных героев. Но Меркурий — это еще и знак двойственности человеческой природы. Неслучайно его изображают с кадуцеем — жезлом, который обвевают две змеи — знак мужского и женского начала. Можно вспомнить, что Меркурий считается отцом Гермафродита, а еще что имя Меркурий взял себе певец Фаррух Булсара, ставший знаменитым как Фредди Меркьюри.
Не у одной меня абсолютно все в этом стихотворении вызывало вопросы. Во-первых, самое начало: «Поворачивали дула / В синем холоде штыков». Какие такие дула и куда поворачивали? Почему орудия дальнего боя соседствуют со штыками, оружием ближнего боя? Почему стихотворение выдержано в подчеркнуто синих тонах: синий холод штыков, звезды, льющие «синий свет свой»?
С каким «мужиком» идет в разведку автор, почему мужик не говорит «по-русски», почему неожиданно их внимание привлекает «Меркурий»? И почему атмосфера стихотворения подчеркнуто не военная, а какая-то влюбленно-романтичная: «Тихо-тихо… / Редко-редко / Донесется скрип телег. / Мы с утра ушли в разведку, / Степь и травы — наш ночлег», «Наши кони шли понуро, / Слабо чуя повода, / Я сказал ему: — Меркурий/ Называется звезда».
Нет, это не война. Это пастораль, это романтическая прогулка двух влюбленных. Ослабленные поводья коней, значит, двое держатся за руки, целое поле, постеленное им для ночлега (сравните: "Я поля влюбленным постелю" Высоцкого).
Занимательно и само упоминание Меркурия, выглянувшего «из-за облаков». Первый, очевидный смысл, согласно греческой мифологии, Меркурий — проводник душ, посредник между жизнью и смертью, что соотносится с темой стихотворения и смертью двух главных героев. Но Меркурий — это еще и знак двойственности человеческой природы. Неслучайно его изображают с кадуцеем — жезлом, который обвевают две змеи — знак мужского и женского начала. Можно вспомнить, что Меркурий считается отцом Гермафродита, а еще что имя Меркурий взял себе певец Фаррух Булсара, ставший знаменитым как Фредди Меркьюри.
Перед боем больно тускло
Свет свой синий звезды льют...
И спросил он:
– А по-русски
Как Меркурия зовут?
Он сурово ждал ответа;
И ушла за облака
Иностранная планета,
Испугалась мужика.
Свет свой синий звезды льют...
И спросил он:
– А по-русски
Как Меркурия зовут?
Он сурово ждал ответа;
И ушла за облака
Иностранная планета,
Испугалась мужика.
Занимательно жонглирование родами. Лирический герой стихотворения определяет род Меркурия женским, называя его звездой, в то время как напарник, «мужик» в папахе, — использует мужской род: «А по-русски как Меркурия зовут?»
Вопрос, на который «мужик» долго-долго ждет ответа, и Меркурий, прячущийся за облака, становятся как бы медиатором человеческих отношений. Как подпрыгивающие бусины на окне, многократно показанные в разных кинофильмах.
Примечательно, что первыми исполнителями текста стихотворения, положенного на музыку Микаэлом Таривердиевым, были мужчина и женщина, Сергей Тараненко и Галина Беседина, самая красивая пара советского союза. Их поэтический диалог вносил еще больше эротики в текст и еще больше усиливал атмосферу романтической влюбленности.
Зная, что Микаэл Таривердиев тщательно прорабатывал с исполнителями смыслы текстов и устраивал целые лекции и мозговые штурмы, чтобы вникнуть в истинный смысл написанного, мы вместе с поэтом Фазиром Муалимом специально нанесли визит Бесединой и поинтересовались, как объяснял Таривердиев смысл стихотворения Светлова.
Вопрос, на который «мужик» долго-долго ждет ответа, и Меркурий, прячущийся за облака, становятся как бы медиатором человеческих отношений. Как подпрыгивающие бусины на окне, многократно показанные в разных кинофильмах.
Примечательно, что первыми исполнителями текста стихотворения, положенного на музыку Микаэлом Таривердиевым, были мужчина и женщина, Сергей Тараненко и Галина Беседина, самая красивая пара советского союза. Их поэтический диалог вносил еще больше эротики в текст и еще больше усиливал атмосферу романтической влюбленности.
Зная, что Микаэл Таривердиев тщательно прорабатывал с исполнителями смыслы текстов и устраивал целые лекции и мозговые штурмы, чтобы вникнуть в истинный смысл написанного, мы вместе с поэтом Фазиром Муалимом специально нанесли визит Бесединой и поинтересовались, как объяснял Таривердиев смысл стихотворения Светлова.
«Вы думаете, оно о любви? — переспросила 70-летняя певица, не особенно смутившись. И продолжила: — Да, почему бы и нет. Конечно, мы пели о любви. Любовь — должна быть везде. И ничего такого».
Кульминационный момент стихотворения «В разведке» — строки «Тихо-тихо… / Мелко-мелко / Полночь брызнула свинцом» — одновременно рисуют нам кульминацию любовных и военных отношений. Не единожды в поэзии Светлова высшее проявление любви оказывается неотделимым от смерти. Наиболее прозрачны «Двое» («Они улеглись у костра своего, / Бессильно раскинув тела, / И пуля, пройдя сквозь висок одного, / В затылок другому вошла»).
В финале стихотворения офицер приказывает отдать пулемет, «Но мертвые лица не сводит испуг, / И радость уснула на них… / И холодно стало третьему вдруг / От жуткого счастья двоих».
Тот же самый исход и ту же самую объединяющую пулю мы видим и в «Разведке»: «Пуля в лоб ему попала, / Пуля в грудь мою вошла». Нежелание героев бежать от пуль можно прочесть не только как нежелание прослыть трусами, но и как стремление сохранить свои отношения, возможные только на войне: «Мы не скажем командиру, / Не расскажем никому», — предлагает лирический герой. Но его останавливает суровый «мужик»: «Как я встану перед миром, / Как он взглянет на меня, / Как скажу я командиру…» (Думается, неслучайно Таривердиев выбросил из текста четверостишие с мощным эротическим подтекстом: "Лучше я, ночной порою, / Погибая на седле, / Буду счастлив под землею, / Чем несчастен на земле".)
В финале стихотворения офицер приказывает отдать пулемет, «Но мертвые лица не сводит испуг, / И радость уснула на них… / И холодно стало третьему вдруг / От жуткого счастья двоих».
Тот же самый исход и ту же самую объединяющую пулю мы видим и в «Разведке»: «Пуля в лоб ему попала, / Пуля в грудь мою вошла». Нежелание героев бежать от пуль можно прочесть не только как нежелание прослыть трусами, но и как стремление сохранить свои отношения, возможные только на войне: «Мы не скажем командиру, / Не расскажем никому», — предлагает лирический герой. Но его останавливает суровый «мужик»: «Как я встану перед миром, / Как он взглянет на меня, / Как скажу я командиру…» (Думается, неслучайно Таривердиев выбросил из текста четверостишие с мощным эротическим подтекстом: "Лучше я, ночной порою, / Погибая на седле, / Буду счастлив под землею, / Чем несчастен на земле".)
И вновь отмечу, что все написанное является всего лишь интерпретацией, хотя о связи военных стихотворений Светлова с гомосексуальной темой упоминается, например, в статье Михаила Золотоносова «O huello, или Тайный смысл полковой серенады». Михаил Золотоносов предположил, что «гипограммой» стихотворения «Гренада» была развеселая гомосексуальная «Песнь правоведов», неформальный гимн училища правоведов, воспитанником которого был Петр Ильич Чайковский.
Стихотворений, косвенным образом намекающих на любовь к мужчине, в военной лирике Светлова немало. К их числу можно отнести, к примеру, «Четыре пули», в котором говорится о таинственной четвертой пуле, которая нанесла непроизнесенный ущерб лирическому герою:
Стихотворений, косвенным образом намекающих на любовь к мужчине, в военной лирике Светлова немало. К их числу можно отнести, к примеру, «Четыре пули», в котором говорится о таинственной четвертой пуле, которая нанесла непроизнесенный ущерб лирическому герою:
М. Золотоносов. O huello, или Тайный смысл полковой серенады // НЛО. 1995. № 17.
Приложи только руку –
И нащупаешь ты
Мгновенную выпуклость быстроты.
Приложи только ухо –
И услышь, недвижим,
Как свистит эта пуля
По жилам моим.
И нащупаешь ты
Мгновенную выпуклость быстроты.
Приложи только ухо –
И услышь, недвижим,
Как свистит эта пуля
По жилам моим.
Я – противник горя и разлуки,
Любящий товарищей своих, –
Протянул ему на помощь руки:
– Оставайся, дорогой, в живых!
Любящий товарищей своих, –
Протянул ему на помощь руки:
– Оставайся, дорогой, в живых!
Неоднозначно можно трактовать и «Возвращение», в котором политрук воскресает из мертвых и возвращается к жене. Но при этом возвращение происходит по воле мужчины-лирического героя:
Характер любовного треугольника несет в себе финал стихотворения:
Он пришел к родным, он спит с женой,
И парят над ним у изголовья
Ангелы, придуманные мной…
И парят над ним у изголовья
Ангелы, придуманные мной…
Конечно, временами в военной лирике Светлова появляются и женщины. Но как разительно отличается их присутствие. Автор всеми силами подчеркивает дистанцию: «Любимую, на руки взяв осторожно, / На облако я усадил», — и уточнение: «Я другом ей не был, я мужем ей не был».
Объединяя вышеизложенное, отметим, что в поэзии Светлова отношения между мужчинами на войне рассматриваются в древнегреческом духе с ярко выраженным эротическим контекстом. Известно, что в Древней Греции поощрялось создание мужских пар на фоне боевых действий. В таких парах каждый участник испытывал больше ответственности за своего партнера, отсюда большая взаимовыручка и, соответственно, выживаемость.
В военной лирике Светлова именно в таком смысле и рассматриваются отношения между двумя героями.
Интимные отношения двух мужчин возможны только в условиях войны. И потому смерть для двух влюбленных благоприятнее окончания войны. И то, и другое — смерть, однако смерть от пули несет в себе единение. В ней — и «жуткое счастье» для двоих, и «счастье под землею» в противовес «несчастью на земле», где перед героями возникает необходимость «встать перед миром» и ждать, «как он глянет».
Объединяя вышеизложенное, отметим, что в поэзии Светлова отношения между мужчинами на войне рассматриваются в древнегреческом духе с ярко выраженным эротическим контекстом. Известно, что в Древней Греции поощрялось создание мужских пар на фоне боевых действий. В таких парах каждый участник испытывал больше ответственности за своего партнера, отсюда большая взаимовыручка и, соответственно, выживаемость.
В военной лирике Светлова именно в таком смысле и рассматриваются отношения между двумя героями.
Интимные отношения двух мужчин возможны только в условиях войны. И потому смерть для двух влюбленных благоприятнее окончания войны. И то, и другое — смерть, однако смерть от пули несет в себе единение. В ней — и «жуткое счастье» для двоих, и «счастье под землею» в противовес «несчастью на земле», где перед героями возникает необходимость «встать перед миром» и ждать, «как он глянет».
В лирике Светлова пуля, несущая смерть, — это еще и высшее эротическое переживание.
Другой исход возможен, но, как подчеркивается в стихотворении «Возвращение», — по согласию одного из партнеров. Оживление политрука лирическим героем — это не физическое его оживление, а согласие на возвращение «в мир», где даже в интимном эпизоде, когда политрук спит с женой, в супружеской спальне всегда будет присутствовать третий.
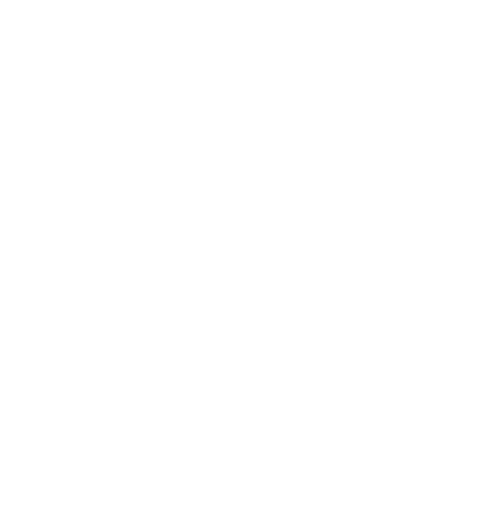
Сергей Чередниченко
В 2019 году в проекте «Легкая кавалерия» я буду писать о давно интересующей меня теме: литература-кино-жизнь. А именно о тех смысловых связях, которые по воле авторов или спонтанно возникают между отечественной литературой XIX—XXI веков, современным российским кинематографом и нашей текущей жизнью. Мне представляется, что в этом смысловом поле найдутся какие-то ключи для понимания того, кто мы есть и куда ж нам плыть.
В конце 2018 года вышли два сериала производства «Comedy Club Production»: «Год культуры» (в роли опального чиновника Министерства образования Виктора Михайловича Сычева Федор Бондарчук) и «Домашний арест» (в роли мэра-взяточника Аркадия Борисовича Аникеева Павел Деревянко). В этих двух сериалах много общего.
В конце 2018 года вышли два сериала производства «Comedy Club Production»: «Год культуры» (в роли опального чиновника Министерства образования Виктора Михайловича Сычева Федор Бондарчук) и «Домашний арест» (в роли мэра-взяточника Аркадия Борисовича Аникеева Павел Деревянко). В этих двух сериалах много общего.
Общая и вечная тема, определяемая карамзинским афоризмом: «Как дела в России? — Воруют». Первая сцена «Года культуры»: ВВП с видом великого государственного мужа вещает на «Прямой линии»: «Вообще, коррупция есть везде… не скрою, что у нас, особенно бытовая коррупция носит запредельный характер». А в это время четыре коррупционера смотрят по телевизору выступления «папы» и поднимают тост за то, что «если срок, то в Думе, а если зона, то офшорная».
В этих сериалах варианты одного сюжета: чиновник в наказание за то, что перестал делиться с вышестоящими в коррупционной табели о рангах, лишается власти, денег, связей, карьера рушится — вышестоящие отправляют его в ад обычной российской провинциальной жизни. Герой Бондарчука разжалован самим ВВП после «Прямой линии» и сослан работать заведующим кафедрой русской литературы в город Верхнеямск с заведомо невыполнимой задачей вывести провинциальный вуз на уровень мировых рейтингов. Мэр Синеозерска арестован за взятку в ходе операции ФСБ «Золотой ярд» и отправлен под домашний арест по месту прописки — в коммуналку, где прошло его детство под опекой злобной бабки. Показательная сцена, когда в первую ночь после ареста в давно опустевшей пропыленной комнате Аникеев в пьяном бреду произносит монолог: «Ненавижу тебя, кресло! Стол, я тебя ненавижу! Шкаф, а тебя я вообще презираю!» И тут появляется призрак его бабки, которая объясняет ему: «Ты сейчас в аду, миленький. И знаешь почему? Потому что ты ублюдок — ты даже воровать нормально не умеешь!»
Николай Васильевич Гоголь описал русскую жизнь на два века вперед. Из этих сериалов мы вряд ли узнаем что-то принципиально новое о чиновничьем аппарате нашей матушки-Руси. Но сериалы дают два любопытных варианта развития судьбы главных героев.
В этих сериалах варианты одного сюжета: чиновник в наказание за то, что перестал делиться с вышестоящими в коррупционной табели о рангах, лишается власти, денег, связей, карьера рушится — вышестоящие отправляют его в ад обычной российской провинциальной жизни. Герой Бондарчука разжалован самим ВВП после «Прямой линии» и сослан работать заведующим кафедрой русской литературы в город Верхнеямск с заведомо невыполнимой задачей вывести провинциальный вуз на уровень мировых рейтингов. Мэр Синеозерска арестован за взятку в ходе операции ФСБ «Золотой ярд» и отправлен под домашний арест по месту прописки — в коммуналку, где прошло его детство под опекой злобной бабки. Показательная сцена, когда в первую ночь после ареста в давно опустевшей пропыленной комнате Аникеев в пьяном бреду произносит монолог: «Ненавижу тебя, кресло! Стол, я тебя ненавижу! Шкаф, а тебя я вообще презираю!» И тут появляется призрак его бабки, которая объясняет ему: «Ты сейчас в аду, миленький. И знаешь почему? Потому что ты ублюдок — ты даже воровать нормально не умеешь!»
Николай Васильевич Гоголь описал русскую жизнь на два века вперед. Из этих сериалов мы вряд ли узнаем что-то принципиально новое о чиновничьем аппарате нашей матушки-Руси. Но сериалы дают два любопытных варианта развития судьбы главных героев.
Сычев и Аникеев — это Чичиковы нашего времени. Умные, волевые, деловитые, целеустремленные, они успешно встроились в коррупционную вертикаль. И кажется, что единственная цель жизни для них — бесконечное обогащение.
На заставке «Домашнего ареста» звучит подходящая песня: «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно тебе?» Осталось ли в этих героях что-то человеческое, что-то по-гоголевски «живое» в их душах?
Оба героя, как это принято в русской классике, проходят испытание любовью. Примечательно, что главные героини сериалов — вузовские преподавательницы истории и филологии, идеалистки ни от мира сего. Видимо, этот женский типаж в глазах массового зрителя сейчас шаблонно комичен. Притом образы героинь отягощены узнаваемыми чертами женщин такого социального положения: Белозерова из «Года культуры» всю себя отдает родному вузу, поэтому у нее «ни котенка, ни ребенка», а Былинкина из «Домашнего ареста» — мать-одиночка, состоящая в интимной связи с начальником. Если сравнить их с героинями литературы XIX века, то ближе всего окажется, как ни странно, образ Сони Мармеладовой. Да, у Белозеровой и Былинкиной другой род занятий, другая социальная среда, но та же психология идеалисток-истеричек, та же функция по отношению к главному герою — спасение.
Вот с такими женщинами сталкиваются неудачливые коррупционеры, оказавшись, по выражению Сычева, «на самом днище, среди интеллигентов». И женщины, как положено, стараются их спасти, но получается это только в одном случае.
Оба героя, как это принято в русской классике, проходят испытание любовью. Примечательно, что главные героини сериалов — вузовские преподавательницы истории и филологии, идеалистки ни от мира сего. Видимо, этот женский типаж в глазах массового зрителя сейчас шаблонно комичен. Притом образы героинь отягощены узнаваемыми чертами женщин такого социального положения: Белозерова из «Года культуры» всю себя отдает родному вузу, поэтому у нее «ни котенка, ни ребенка», а Былинкина из «Домашнего ареста» — мать-одиночка, состоящая в интимной связи с начальником. Если сравнить их с героинями литературы XIX века, то ближе всего окажется, как ни странно, образ Сони Мармеладовой. Да, у Белозеровой и Былинкиной другой род занятий, другая социальная среда, но та же психология идеалисток-истеричек, та же функция по отношению к главному герою — спасение.
Вот с такими женщинами сталкиваются неудачливые коррупционеры, оказавшись, по выражению Сычева, «на самом днище, среди интеллигентов». И женщины, как положено, стараются их спасти, но получается это только в одном случае.
В «Годе культуры» Сычев теряет коррупционные сбережения, и это сразу делает его лучше. В финале он отказывается от пяти миллионов рублей, полученных в результате шантажа губернатора, чтобы продемонстрировать Белозеровой, что встал на путь исправления. И даже, когда вечером накануне губернаторских выборов обнаруживается фальсификация фальсификации, Сычев поддерживает предложение Белозеровой провести честные выборы. Но когда он снова оказывается у власти, то единственное его желание — сбежать из этого ада, обратно, в свою роскошную квартирку с окнами на Москву-реку и Кремль. Он зовет с собой и Белозерову, используя убедительнейший аргумент: «Не вечно же в этой перди жить!» В последних кадрах зло в лице вышестоящего чиновника Ивана Андреевича вроде бы наказано, а Сычев возвращен в столицу, но спасения героя не случилось, идеалисты проиграли.
А вот финал «Домашнего ареста» оптимистичнее, хотя и с элементом трагического. Лишившись коррупционных "сорока лямов" долларов, Аникеев предлагает ФСБ красивую многоходовочку и сдает всю региональную верхушку, в результате чего спецоперация меняет название на «Два золотых ярда». «Денег вроде бы больше, а звучит хуже!» — говорит с улыбкой, глядя на пачки долларов и слитки золота, которые теперь перешли в руки высшего звена коррупционной вертикали, генерал ФСБ Круглов (его играет Гоша Куценко). Аникеев же за праздничным столом в компании соседей по коммуналке, ставших друзьями, произносит важную фразу: «Почему-то именно с вами я чувствую себя счастливым. Даже без денег».
Кажется, это последние его слова. В этот момент, ворвавшись в коммуналку, в него стреляет бывший помощник. Следующие кадры: похороны, но не Аникеева, а помощника, и утопическое правление победившего на мэрских выборах народного кандидата. Что это — телесериальный дешевый хеппи-энд, или метафоричное изображение рая, в который попадает оказавшаяся живой душа Чичикова-Аникеева? Однозначно ответить нельзя. Но будем верить, что мечта Гоголя привести Чичикова к спасению сбылась хотя бы в таком варианте.
Если уж зашла речь о мечтах, то нельзя не вспомнить странно сбывшуюся мечту другого персонажа «Мертвых душ» — Манилова: «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг… чрез пруд выстроить каменный мост…» Все-таки что-то меняется в России за два века! Каменный мост мы построили, да не через какой-то там пруд, а через целый Керченский пролив. Впрочем, действительно ли тот мост — осуществленная мечта Манилова о всеобщем немного приторном благоденствии или только очередной дикий каприз Ноздрева, — об этом судить пока рано. Продолжение следует, и оказывается, что жить на свете не так уж скучно, господа.
А вот финал «Домашнего ареста» оптимистичнее, хотя и с элементом трагического. Лишившись коррупционных "сорока лямов" долларов, Аникеев предлагает ФСБ красивую многоходовочку и сдает всю региональную верхушку, в результате чего спецоперация меняет название на «Два золотых ярда». «Денег вроде бы больше, а звучит хуже!» — говорит с улыбкой, глядя на пачки долларов и слитки золота, которые теперь перешли в руки высшего звена коррупционной вертикали, генерал ФСБ Круглов (его играет Гоша Куценко). Аникеев же за праздничным столом в компании соседей по коммуналке, ставших друзьями, произносит важную фразу: «Почему-то именно с вами я чувствую себя счастливым. Даже без денег».
Кажется, это последние его слова. В этот момент, ворвавшись в коммуналку, в него стреляет бывший помощник. Следующие кадры: похороны, но не Аникеева, а помощника, и утопическое правление победившего на мэрских выборах народного кандидата. Что это — телесериальный дешевый хеппи-энд, или метафоричное изображение рая, в который попадает оказавшаяся живой душа Чичикова-Аникеева? Однозначно ответить нельзя. Но будем верить, что мечта Гоголя привести Чичикова к спасению сбылась хотя бы в таком варианте.
Если уж зашла речь о мечтах, то нельзя не вспомнить странно сбывшуюся мечту другого персонажа «Мертвых душ» — Манилова: «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг… чрез пруд выстроить каменный мост…» Все-таки что-то меняется в России за два века! Каменный мост мы построили, да не через какой-то там пруд, а через целый Керченский пролив. Впрочем, действительно ли тот мост — осуществленная мечта Манилова о всеобщем немного приторном благоденствии или только очередной дикий каприз Ноздрева, — об этом судить пока рано. Продолжение следует, и оказывается, что жить на свете не так уж скучно, господа.
36 стратагем. Сокровенная книга по военной тактике / Пер. И. Н. Мизинина. М.: Центрполиграф, 2016. С. 55.
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике