Январь 2019
Легкая кавалерия. Выпуск №1
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
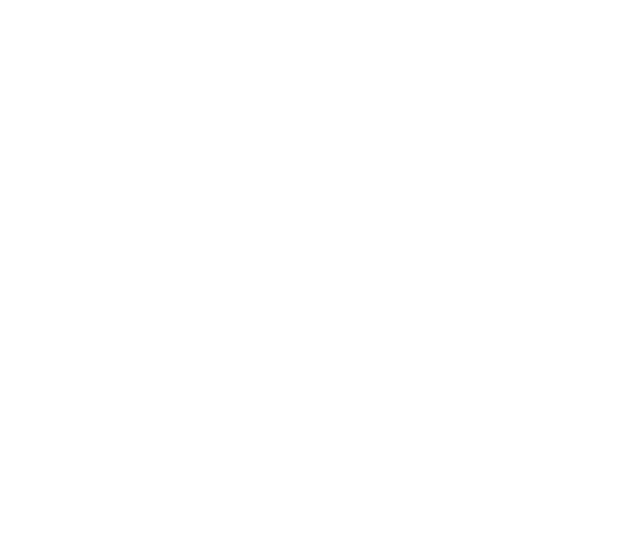
Игорь Дуардович
Слово редактора рубрики
В древнекитайском военном трактате «Тридцать шесть стратагем» сказано: «Пожертвовать сливовым деревом, чтобы спасти персиковое».
Рубрика «Легкая кавалерия» возникла на страницах журнала «Новая Юность», там я собрал первый отряд злобных критиков, некоторые из которых настоящие головорезы, и потому я их больше всего люблю. Вместе мы прошли боевое крещение и закалились, но в итоге возможности для развития на страницах журнала были исчерпаны.
Рубрика «Легкая кавалерия» возникла на страницах журнала «Новая Юность», там я собрал первый отряд злобных критиков, некоторые из которых настоящие головорезы, и потому я их больше всего люблю. Вместе мы прошли боевое крещение и закалились, но в итоге возможности для развития на страницах журнала были исчерпаны.
Но главное — сгущаются силы Мордора: не стало журнала «Арион», не стало «Октября», закрылся «Журнальный зал» (а в новый я не очень верю), под угрозой оказался «Русский Букер». В маленьком мире толстых журналов настали самые нелегкие и черные времена. А потому нынешнее появление рубрики в «Вопросах литературы» — не случайное решение, а стратегически важное, причем как для рубрики, так и для самого журнала, в котором сегодня происходят значительные перемены.
«Вопросы литературы», в том числе благодаря своему расположению — на крыше Дома Нирнзее, восходят к Башне, и тут я перефразировал Элю Погорелую, которая в нашей недавней переписке сказала так о «Пишем на крыше» — школе писательского мастерства при журнале, которую мы откроем в апреле. К Башне, — стало быть, ко всему основательному и основополагающему. В этом смысле «Вопросы» видятся мне самым центром империи толстых журналов, едва ли не столицей с королевским замком из слоновой кости. А «Новая Юность» – это дальний бесприютный разбойничий край на Шелковом пути литературы, с россыпью мелких дозорных башен и крепостей.
Несмотря на то, что образный ряд отсылает нас к Средневековью, мы все-таки говорим о современности, а сегодня ценятся такие качества, как мобильность, универсальность, скорость и динамичность. Мы, таким образом, должны предлагать и осваивать новые форматы, новое оружие времени. Тем не менее «Кавалерия» – это не просто рубрика «беглой» и «лихой» критики, это не только способ мгновенно составить представление о происходящем. Для меня это изначально нечто большее, например, поиск нового языка. Или даже возможность подумать над новым журналом, его, быть может, зародыш?
«Вопросы литературы», в том числе благодаря своему расположению — на крыше Дома Нирнзее, восходят к Башне, и тут я перефразировал Элю Погорелую, которая в нашей недавней переписке сказала так о «Пишем на крыше» — школе писательского мастерства при журнале, которую мы откроем в апреле. К Башне, — стало быть, ко всему основательному и основополагающему. В этом смысле «Вопросы» видятся мне самым центром империи толстых журналов, едва ли не столицей с королевским замком из слоновой кости. А «Новая Юность» – это дальний бесприютный разбойничий край на Шелковом пути литературы, с россыпью мелких дозорных башен и крепостей.
Несмотря на то, что образный ряд отсылает нас к Средневековью, мы все-таки говорим о современности, а сегодня ценятся такие качества, как мобильность, универсальность, скорость и динамичность. Мы, таким образом, должны предлагать и осваивать новые форматы, новое оружие времени. Тем не менее «Кавалерия» – это не просто рубрика «беглой» и «лихой» критики, это не только способ мгновенно составить представление о происходящем. Для меня это изначально нечто большее, например, поиск нового языка. Или даже возможность подумать над новым журналом, его, быть может, зародыш?
Вряд ли кто-то годы спустя займется пролистыванием тех же «толстяков» или будет читать подряд «толстые» статьи, чтобы узнать о литературном моменте. Белинский катал простыни годовых обзоров русской литературы — мы же будем делать наше лоскутное одеяло. «Кавалерия» — это моментальный снимок или слепок литературного времени, это колба времени, которую мы запечатаем в конце года… Посмотрите прошлое содержание рубрики в «Новой Юности», и вы увидите все основные события 2018-го: скандал вокруг «Нацбеста» – обидели Старобинец, итоги премии «Лицей», новая книга Яхиной «Дети мои», фильм «Довлатов» Германа-младшего, закрытие «Журнального зала», поэты-рэперы, 100-летие Солженицына и т. д. «Кавалерию» можно читать в любом порядке — с конца, с начала, с середины, с фамилии автора, бросая на половине, на полуслове, — в общем, как вам нравится.
Итак, «Кавалерия» перешла в «Вопросы литературы». Хочется сказать «прибыла в распоряжение/в расположение…», «передислоцировалась». И мы не только перешли всей рубрикой, мы еще и усилились новым отрядом, в котором Роман Сенчин, Дмитрий Бавильский, Алексей Саломатин, неожиданно вернувшийся в критику Василий Ширяев. Привет, Вася! Этот новый отряд я и представляю сейчас и предлагаю с ним познакомиться. В основном это опытные гусары. Таким образом, теперь у нас целых два отряда, а это значит, что рубрика становится ежемесячной. Отряды будут «дежурить» поочередно.
Все на защиту Башни!
Итак, «Кавалерия» перешла в «Вопросы литературы». Хочется сказать «прибыла в распоряжение/в расположение…», «передислоцировалась». И мы не только перешли всей рубрикой, мы еще и усилились новым отрядом, в котором Роман Сенчин, Дмитрий Бавильский, Алексей Саломатин, неожиданно вернувшийся в критику Василий Ширяев. Привет, Вася! Этот новый отряд я и представляю сейчас и предлагаю с ним познакомиться. В основном это опытные гусары. Таким образом, теперь у нас целых два отряда, а это значит, что рубрика становится ежемесячной. Отряды будут «дежурить» поочередно.
Все на защиту Башни!
P.S.
За прошедший год рубрику немало критиковали, причем даже внутри самой «Кавалерии» возникали разговоры, например, об этике/этикете, что можно критику, чего нельзя.
За прошедший год рубрику немало критиковали, причем даже внутри самой «Кавалерии» возникали разговоры, например, об этике/этикете, что можно критику, чего нельзя.
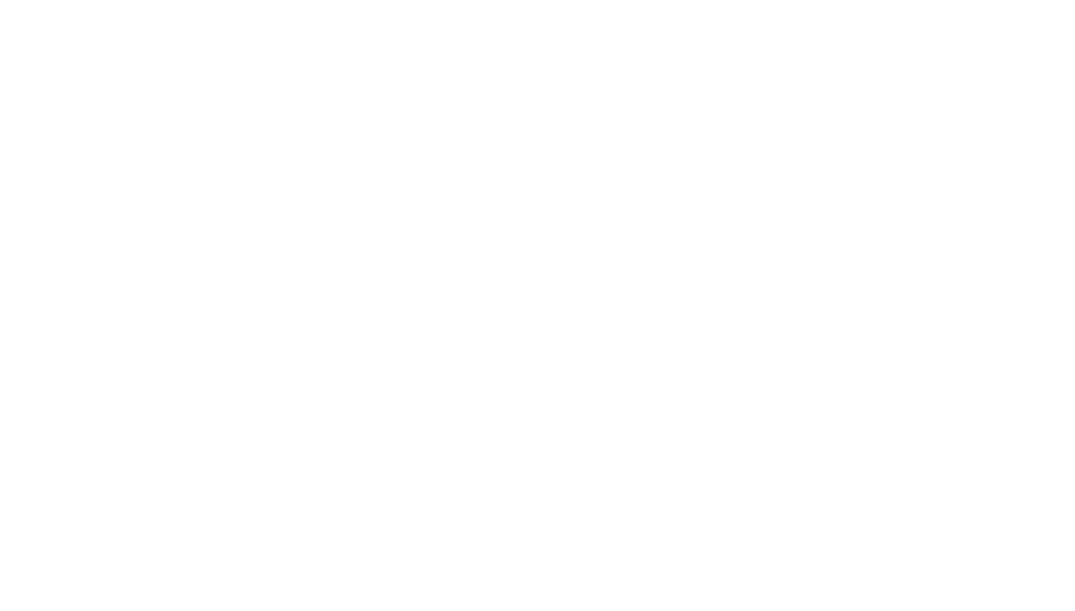
Галина Юзефович заявила в фейсбуке Анны Жучковой, что это не критика, а так – «наброски, наметки, нытье и прочий мелкий дребезг».
Ну да, наброски, наметки, ну так мы же вроде так и хотели, у нас даже жанровый подзаголовок «Заметки, записки, посты». В то же время странно узнавать такое от Юзефович, еженедельно в три приема пересказывающей по три-четыре книги для «Медузы», о чем там написано, дескать, вот это и есть критика. Однако маркетинг тоже очень важная штука, маркетинг литературе нужен.
В новой «Кавалерии» мы говорим о разных интересных штуках: об отсутствии поколения в нынешней литературе 2010-х — нет движухи; о блогерах и легитимизации дилетантизма в искусстве — крепость журнала «Арион» пала; о ламентациях одной поэтессы и «харассменте» в журнале «Новая Юность» — можно ли редактировать чужие стихи; об этикете с заездом в этику — о красоте, добре и истине в критике; о «филологической критике», которая все чаще звучит как ругательство, и о книге О. Соколовой «От авангарда к неоавангарду»; о гонорарах писателей и о том, что писательство — такая же работа и — для заработка; об интерактивной литературе и визуальном романе; о книге Л. Горалик «Все, способные дышать дыхание»; о критике А. Конакове и древненахском языке — краткий словарь языка А. Конакова; а также о многом другом…
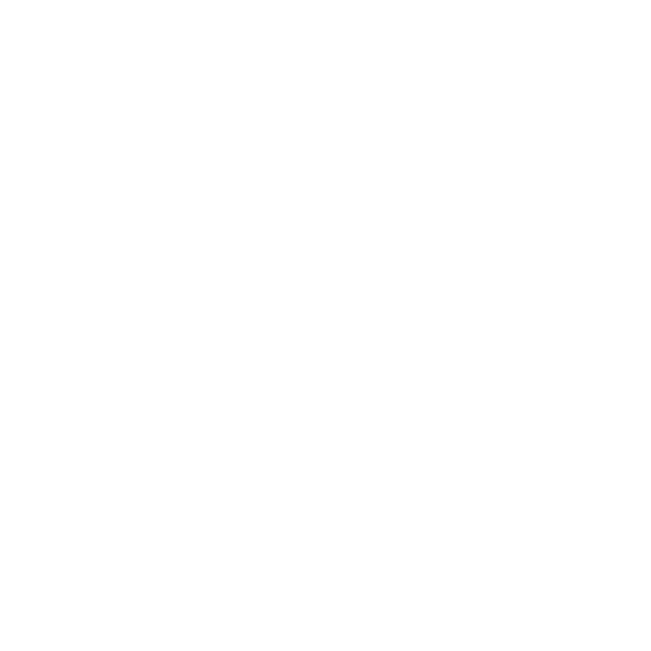
Роман Сенчин
Я наверняка повторюсь. О подобном высказывался не раз. Но не всем же источать оригинальные идеи — кто-то подолгу живет с одной мыслью и пытается донести ее до других. Считает, что она важна… Я из второй категории, видимо. Да и вспоминать тянет все чаще.
Когда я, что называется, входил в литературу — во второй половине 90-х, — в журналах печатали довольно много начинающих. Это некоторая натяжка, что до начала 2000-х на молодых не обращали внимания. Обращали, но так, — дозированно. В одном из двух-трех номеров «толстяков» происходил дебют, последний номер «Октября» отдавался молодым. В общем, их не игнорировали, уже не мариновали, как было в 80-е — начале 90-х. Тогда почти все было занято публикациями ранее запрещенного, вынутого из ящиков письменных столов.
Когда я, что называется, входил в литературу — во второй половине 90-х, — в журналах печатали довольно много начинающих. Это некоторая натяжка, что до начала 2000-х на молодых не обращали внимания. Обращали, но так, — дозированно. В одном из двух-трех номеров «толстяков» происходил дебют, последний номер «Октября» отдавался молодым. В общем, их не игнорировали, уже не мариновали, как было в 80-е — начале 90-х. Тогда почти все было занято публикациями ранее запрещенного, вынутого из ящиков письменных столов.
Печататься в толстых журналах было очень престижно, да и гонорары платили ощутимые. Но публикации, как правило, не вызывали особо отзвука у критиков, литературных обозревателей (хотя почти в каждой газете тогда были обзоры «толстяков», пусть краткие и выборочные). И, листая нынче журналы того времени, я вижу, что абсолютное большинство молодых авторов исчезло из литературы, а это были, в основном, очень талантливые люди, им наверняка было о чем еще рассказать.
Исчезали потому — с некоторыми из них я знаком, разговаривал об этом, — что не видели никакой реакции на написанное и напечатанное. Молчание — самое страшное для литератора. Оно попросту убивает.
Из моих сверстников единственным, скажем так, резонансным был Олег Павлов. Одних его проза восторгала, других возмущала, происходили полемики, и сам Олег не молчал. В общем, вокруг его вещей, да и самой фигуры, происходило движение — была движуха. В нее включались все новые критики, прозаики.
Немного позже такая же движуха возникла в отношении поколения, что пришло в первой половине нулевых. Кто-то приветствовал их и называл скорым будущим русской литературы, кто-то отказывал даже в минимальном таланте и значении, называл выкормышами либеральных «Дебюта» и Форума молодых писателей в Липках.
У этого поколения появились свои критики, которые писали как рецензии, так и огромные статьи, где говорилось не только о литературе, но и затрагивались чуть ли не все сферы человеческой цивилизации.
Немного позже такая же движуха возникла в отношении поколения, что пришло в первой половине нулевых. Кто-то приветствовал их и называл скорым будущим русской литературы, кто-то отказывал даже в минимальном таланте и значении, называл выкормышами либеральных «Дебюта» и Форума молодых писателей в Липках.
У этого поколения появились свои критики, которые писали как рецензии, так и огромные статьи, где говорилось не только о литературе, но и затрагивались чуть ли не все сферы человеческой цивилизации.
Потом, с началом 2010-х, наступило затишье, а следом — гробовая тишина. Критики ушли в иные жанры литературы (быть критиком долгое время практически невозможно), других же не народилось. Новые писатели, не менее талантливые, с неменьшим поводом для большого и серьезного разговора, приходят, публикуются и издаются — и наталкиваются в основном на молчание.
Всплеск внимания к одной-двум книгам в год полезен и приятен авторам этих самых книг. Но литературу это не двигает. Она буксует на одном месте, иногда рыча, выбрасывая столбы дыма. Но это не движение.
Вот прочитал недавно запись в фейсбуке писателя Романа Богословского:
Всплеск внимания к одной-двум книгам в год полезен и приятен авторам этих самых книг. Но литературу это не двигает. Она буксует на одном месте, иногда рыча, выбрасывая столбы дыма. Но это не движение.
Вот прочитал недавно запись в фейсбуке писателя Романа Богословского:
«А вот ведь непонятно. Читал как-то статью Романа Сенчина, где он сетует — есть сегодня несколько новых интересных авторов, а вот критики на них нет. Критики их не замечают. А у меня тогда такой вопрос: с уходом со сцены „нового реализма“ критики, которые его продвигали, все лишились работы, или что?
Где-то читал: „Валерия Пустовая сделала для „нового реализма“ много, может, больше, чем он сам для себя“. А что, Валерия Пустовая ушла из профессии? То есть — ну вывели на свет Божий „новых реалистов“ — а дальше-то что, не надо писать критику?
Вот бы Роман Сенчин задал эти вопросы, которыми задается в статьях, лично тем людям. На каком-нибудь круглом столе».
Где-то читал: „Валерия Пустовая сделала для „нового реализма“ много, может, больше, чем он сам для себя“. А что, Валерия Пустовая ушла из профессии? То есть — ну вывели на свет Божий „новых реалистов“ — а дальше-то что, не надо писать критику?
Вот бы Роман Сенчин задал эти вопросы, которыми задается в статьях, лично тем людям. На каком-нибудь круглом столе».
Сесть за круглый стол и допросить Валерию Пустовую, Алису Ганиеву, Сергея Белякова, Андрея Рудалева и еще нескольких активно писавших лет десять назад, наверное, можно. Но вряд ли даже при желании они объяснят, почему или вовсе не пишут критику, или почти не пишут. Человек — не робот. Потерял интерес, смысл, попросту устал, исчерпался.
Плохо то, что практически нет новых. Нынешних двадцатилетних, которые бы пришли и заявили: а мы считаем, что литература должна быть такой, и у нас есть те, кто ее пишет,— смотрите.
Рецензиями, которых печатается немало, — ничего не исправишь, никого по-настоящему не заинтересуешь. Нужны серьезные, боевитые статьи. Нужны споры, нужна движуха. Без них — уныние и тяжелая дремота.
Плохо то, что практически нет новых. Нынешних двадцатилетних, которые бы пришли и заявили: а мы считаем, что литература должна быть такой, и у нас есть те, кто ее пишет,— смотрите.
Рецензиями, которых печатается немало, — ничего не исправишь, никого по-настоящему не заинтересуешь. Нужны серьезные, боевитые статьи. Нужны споры, нужна движуха. Без них — уныние и тяжелая дремота.
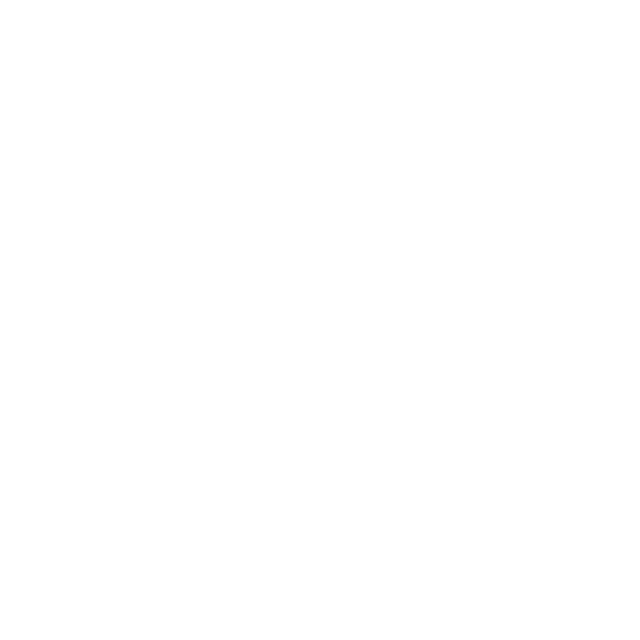
Максим Алпатов
Выражение «филологическая критика» все чаще звучит как ругательство. В таком тоне она упоминается в недавней статье Владимира Козлова «Ничья земля современной поэзии». Сразу вспомнилась жестокая реплика Анны Кузнецовой в интервью порталу «Лиterraтура»: «Вылазки филологов на территорию современности редко обходятся без диверсий, даже если у лазутчиков не было дурных намерений». Когда кого-то так сильно ругают, поневоле хочется вступиться — даже если «лазутчики» действительно в чем-то неправы. Тем более, что главная претензия к методологии «филологической критики» не кажется мне такой уж страшной.
Филологи якобы оставляют в стороне личные вкусы и не пользуются оценочными критериями, становясь, по выражению Сергея Чупринина, на позицию «экспертов, что добру и злу внимают с одинаково холодным исследовательским интересом». Что ж, показать эстетические взгляды можно и без формального приговора «поэт N хорош, а вот Х не дотягивает». Рассказывая о природе своего интереса, филолог поневоле обнажает вкусы, систему ценностей, в рамках которой строится разговор. Кроме того, ведущие представители направления (Алексей Конаков, Данила Давыдов, Кирилл Корчагин и др.) субъективных рассуждений не боятся и иногда отвешивают в научных, казалось бы, текстах такую звонкую похвалу, какой постеснялись бы многие «классические» критики.
Поэтому книгу доктора филологических наук Ольги Соколовой «От авангарда к неоавангарду» я читал почти что в знак протеста, вопреки претензиям к «безоценочности». Пусть будет научный анализ, методичное исследование. «Холодный интерес» как лекарство от горячечного бреда, к которому порой скатывается авторская критика.
Не повезло — анализ у Соколовой растаял еще во введении, и там же остались все разговоры про «выявление векторов развития» и культурный перенос идей между поэтическими эпохами. Разбирая стихотворения А. Крученых, В. Хлебникова, Г. Айги, В. Сосноры, она продемонстрировала только трансфер языковых приемов, причем не всегда убедительно. То есть свела эстетическую концепцию к приему.
Значительную часть книги О. Соколова посвящает кризису лирического «я», тому, как поэты его преодолевают, и пробует доказать, что современный неоавангард унаследовал стратегии формирования субъекта у неоавангарда второй половины XX века, а тот опирался на ранний авангард. У Хлебникова — «грезящий субъект», иногда «впадающий в детство», но тем не менее ярко выраженный и безраздельно владеющий текстом. У Айги и Сосноры субъекты уходят «на задний план», сами себе (и бытию) задают абстрактные вопросы и создают «неснимаемые противоречия», но поиск нового «я» они ведут все же от первого лица. Исследователь переходит от XX века к современной поэзии неоавангарда — и тут вдруг такой звук, будто едешь в маршрутке и что-то отвалилось. Не то колесо, не то субъект: вместо него теперь «прагматическая неопределенность».
Значительную часть книги О. Соколова посвящает кризису лирического «я», тому, как поэты его преодолевают, и пробует доказать, что современный неоавангард унаследовал стратегии формирования субъекта у неоавангарда второй половины XX века, а тот опирался на ранний авангард. У Хлебникова — «грезящий субъект», иногда «впадающий в детство», но тем не менее ярко выраженный и безраздельно владеющий текстом. У Айги и Сосноры субъекты уходят «на задний план», сами себе (и бытию) задают абстрактные вопросы и создают «неснимаемые противоречия», но поиск нового «я» они ведут все же от первого лица. Исследователь переходит от XX века к современной поэзии неоавангарда — и тут вдруг такой звук, будто едешь в маршрутке и что-то отвалилось. Не то колесо, не то субъект: вместо него теперь «прагматическая неопределенность».
Наблюдение верное — тенденцию к деформации лирического «я» сегодня легко обнаружить. Но разве тот факт, что поэты раннего авангарда и неоавангарда второй половины XX века включали в свою стратегию говорящего субъекта, а современные авторы ищут способы построить высказывание без него, не доказывает ли как раз отсутствие переноса идей (как минимум в этом аспекте)?
Золотым стандартом неопределенности Соколова назначает К. Корчагина. Как же он «размывает субъект»? Использует неопределенные местоимения: «задевают смутно касаясь кружат / какие-то точки и пелена над ними». И, по мнению исследователя, наследует в этом… Маяковскому: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — / значит, это кому-нибудь нужно?» (выделение авторское. — М. А.). Кажется, стоило поискать более существенную связь.
Соколова вроде как «выявляет векторы развития», но слишком часто ограничивается внешним сходством. Да, поэты продолжают использовать нарушения синтаксиса, парантезы и вставки иноязычных слов (приведено множество примеров), но разве эстетическая концепция этим исчерпывается? Автор подгоняет признаки под заранее сделанные выводы и потому игнорирует целые явления. Как можно не увидеть принципиального отличия между субъектом Маяковского, взгромоздившимся на стол и пинающим блюдца, и субъектом Корчагина, который говорит словно из ниоткуда, растворяясь в воздухе?
Раздел «Альтернативные формы субъектности в современной русской поэзии» лишь формально привязан к разговору о практиках раннего авангарда и неоавангарда XX века и приведен в книге только для того, чтобы признать сегодняшних авторов наследниками Сосноры и Айги и с этой позиции трактовать все различия как «неявное сходство». Ради красиво выстроенной иерархии автор отказывает современным поэтам в самостоятельности.
Золотым стандартом неопределенности Соколова назначает К. Корчагина. Как же он «размывает субъект»? Использует неопределенные местоимения: «задевают смутно касаясь кружат / какие-то точки и пелена над ними». И, по мнению исследователя, наследует в этом… Маяковскому: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — / значит, это кому-нибудь нужно?» (выделение авторское. — М. А.). Кажется, стоило поискать более существенную связь.
Соколова вроде как «выявляет векторы развития», но слишком часто ограничивается внешним сходством. Да, поэты продолжают использовать нарушения синтаксиса, парантезы и вставки иноязычных слов (приведено множество примеров), но разве эстетическая концепция этим исчерпывается? Автор подгоняет признаки под заранее сделанные выводы и потому игнорирует целые явления. Как можно не увидеть принципиального отличия между субъектом Маяковского, взгромоздившимся на стол и пинающим блюдца, и субъектом Корчагина, который говорит словно из ниоткуда, растворяясь в воздухе?
Раздел «Альтернативные формы субъектности в современной русской поэзии» лишь формально привязан к разговору о практиках раннего авангарда и неоавангарда XX века и приведен в книге только для того, чтобы признать сегодняшних авторов наследниками Сосноры и Айги и с этой позиции трактовать все различия как «неявное сходство». Ради красиво выстроенной иерархии автор отказывает современным поэтам в самостоятельности.
Отсутствие аргументов Соколова компенсирует эмоциями: «В своем творчестве поэт осуществляет вневременной и внепространственный диалог, который нельзя заглушить ни пространственной ограниченностью, ни временной конечностью».
Логику вытесняет рефлексия: «вневременность» доказывается тем, что «для интерпретации цикла Айги <…> важно обращение к контексту тех лет» (к периоду оттепели), «внепространственность» — цитатой «место мое оказалось / пустыней где нет никого». А уж когда доктор наук иллюстрирует «авангардную партитуру» поэзии Айги, находя в ней элементы классической музыкальной формы рондо, становится одновременно и смешно, и не очень.
Книга «От авангарда к неоавангарду» пользуется атрибутами филологии, но не ее аналитическим аппаратом. Доводы Соколовой не научны, а наукообразны, формулировки тяжелы для восприятия, но легки на вес. Я-то думал, что задача филологической критики — анализ, а не оценки. Восхищение и пафос уместны в рецензии или эссе — да и то не всегда. К ученому идешь немного не за этим.
Вот чем так смущали упреки про «безоценочность» — они обращаются к явлению, которое не удается обнаружить, к «сферической филолокритике в вакууме», строгой беспристрастной дисциплине. А на ее месте — наукообразная эссеистика, терминологическая проза. И та критика, что сегодня притворяется филологической, как морская свинка — не морская и не свинка.
Книга «От авангарда к неоавангарду» пользуется атрибутами филологии, но не ее аналитическим аппаратом. Доводы Соколовой не научны, а наукообразны, формулировки тяжелы для восприятия, но легки на вес. Я-то думал, что задача филологической критики — анализ, а не оценки. Восхищение и пафос уместны в рецензии или эссе — да и то не всегда. К ученому идешь немного не за этим.
Вот чем так смущали упреки про «безоценочность» — они обращаются к явлению, которое не удается обнаружить, к «сферической филолокритике в вакууме», строгой беспристрастной дисциплине. А на ее месте — наукообразная эссеистика, терминологическая проза. И та критика, что сегодня притворяется филологической, как морская свинка — не морская и не свинка.
О. В. Соколова От авангарда к неоавангарду: язык, субъективность, культурные переносы. М.: Культурная революция, 2019.
Там же. С. 224.
Там же. С. 142.
Там же. С. 143.
Там же. С. 159.
А. Кузнецова. Развитие литературы вошло в стадию застоя // Лиterraтура. 2017. 28 июня.
В. Козлов. Ничья земля современной поэзии // Вопросы литературы. 2018. № 5.
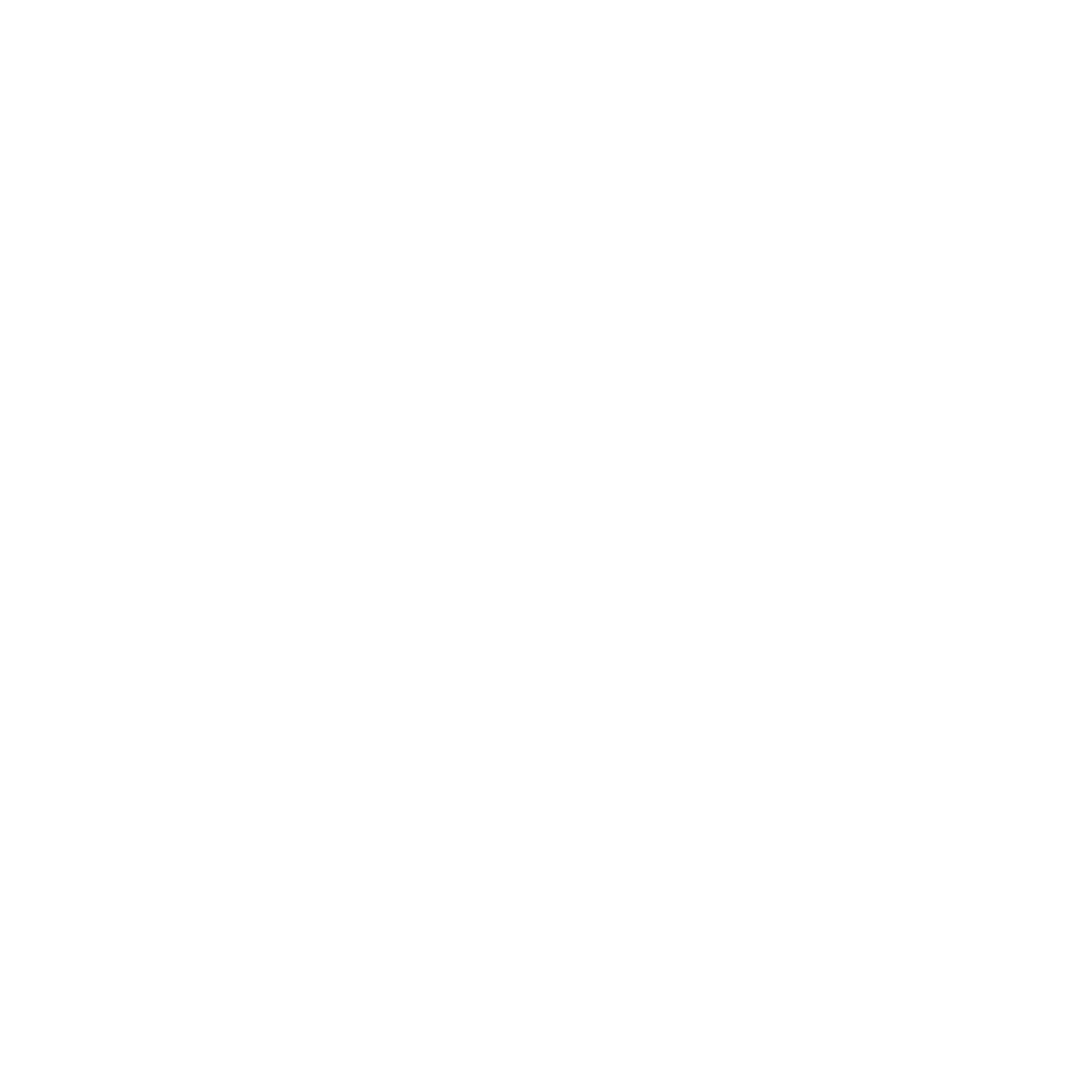
Нет слов.
Л. Брежнев
Je ne cesse de me créer, je suis le donateur et la donation.
J.-P. Sartre. Les Mots
Если интервью усто Алексея Конакова баснословному Борису Кутенкову распечатать на принтере и маленько посечь, то там проступает следующая силлабика.
Л. Брежнев
Je ne cesse de me créer, je suis le donateur et la donation.
J.-P. Sartre. Les Mots
Если интервью усто Алексея Конакова баснословному Борису Кутенкову распечатать на принтере и маленько посечь, то там проступает следующая силлабика.
Монахи, зеки, староверы
знакомые по чтению
поэтических хрестоматий
думая, что пишу стихи
«Звезда» решил премировать
писаний, эт' конеш' курьез
и разумеется открытье
ибо своих слов нет, но долго
поэзьи стала для меня
смешно писать, как я писал
до этого. С другой стороны
чтение множества других
собственный голод по стихам
знакомые по чтению
поэтических хрестоматий
думая, что пишу стихи
«Звезда» решил премировать
писаний, эт' конеш' курьез
и разумеется открытье
ибо своих слов нет, но долго
поэзьи стала для меня
смешно писать, как я писал
до этого. С другой стороны
чтение множества других
собственный голод по стихам
Силлабика эта размыта ad marginem поллиткоректным бла-бла-бла в духе «типический», «аффирмативный» или «тот факт, что». Звукосочетание «тфактчт» – это заклинание типа Pfuiteufel. Курьез – это существование журнала «Звезда», а отнюдь не существование Конакова. Алексей пишет, что «с подозрением относится к понятию "я прочитал", "я освоил", "я изучил", "я достиг"». Логично будет ему вместо «я приехал в Петербург» писать «меня приехало в Петербург», вместо «я написал статью» – «у меня написалась статья», вместо «я стал ходить в библиотеку» – «меня начали ходить в библиотеку», вместо «я понял» – «мне понялось» (зрозумiло), вместо «я стал покупать книги» – «книги стали залазить мне на руки, пристально смотреть в глаза и вымогать деньги», вместо «я намереваюсь говорить глупости» – «глупость намеревается говорить мной», вместо «ведущий свою микроборьбу за гегемонию» – «акляйнемайнкампфствующий» и т. д. Конакову кажется, что он головой понимает мир, и мир дает ему ответы. На самом деле, мир ни с кем не говорит и не дает ҷавоб. Тело говорит и дает ответ, что «я весь умру», а в остальном Конаков ни на кого не похож.
Есть легенда, что в древненахском языке все существительные делились на классы «(не)говорит/(не)делает». Говорит и делает – мужской род, говорит и не делает – женский, не говорит и не делает – средний, не говорит, но делает – магические предметы (амулеты, шашки-саморезы, ружья-самопалы, «машины», деньги и т. д.). Так вот «книги» и «интелегенция» у Алексея Конакова – это такие магические предметы. (А так как мальчикам много говорить было непринято, то речь узурпировалась женщинами, и таким образом мужчины переходили в класс магических предметов, а интелегенция – в класс женщин. Взаимоотношения А. Конакова с интелегенцией можно рассмотреть и под этим углом.)
Краткий словарь языка Алексея Конакова
рессантиман — нафрат
детурнеман — разврат
форма — шақл
(отсюда фамилия Шакловитый)
пафос — шавк
интерпретация — шарҳ
ирония — тамасхур
тенденция — майл
аффект — бехуди
рессантиман — нафрат
детурнеман — разврат
форма — шақл
(отсюда фамилия Шакловитый)
пафос — шавк
интерпретация — шарҳ
ирония — тамасхур
тенденция — майл
аффект — бехуди
Внешне Конаков похож на Кириллова-Шатова из «Бесов», только силлогизм «Бога нет, следовательно, я — Бог и должен убить себя» решен иначе: Слов своих нет, значит, меня нет, но я есть, следовательно, должен быть дан некий народ-богоносец, рекомая интеллигенция, которой я «собран с нуля» («Аз несмь, абие суть аз»). «Сама возможность самообразования дана мне в дар этим классом» — тут Конаков переописывает оммаж (буквально «вочеловечивание»), феодальную примочку, когда мелкий бандюган передает в дар свой аллод большому человеку и сразу же получает его назад в виде лена. «Интелегенция» же происходит от слова «телега», прогоняя которую агенты этого класса заражают других своими неврозами.
То что «своих слов нет» понятно уже из имени A-lexis. Фамилия «Конаков» очевидно от канать («и пусть канает!») и konać - «умирать». Они с Кутенковым почти однофамильцы, «Кутенков» видемо от «кутить» и pokutować «каяться-маяться-бытовать». Koniec и skutek «результат» — практически одно и то же.
Я понимал бы его лучше, если б он менее стремился быть понятым («услышанным» и сделанным нужное выражение лица). Пора подмешать Конакову экзистенциализму. Если слов нет, то мы еще нетнетдаинет.
То что «своих слов нет» понятно уже из имени A-lexis. Фамилия «Конаков» очевидно от канать («и пусть канает!») и konać - «умирать». Они с Кутенковым почти однофамильцы, «Кутенков» видемо от «кутить» и pokutować «каяться-маяться-бытовать». Koniec и skutek «результат» — практически одно и то же.
Я понимал бы его лучше, если б он менее стремился быть понятым («услышанным» и сделанным нужное выражение лица). Пора подмешать Конакову экзистенциализму. Если слов нет, то мы еще нетнетдаинет.
Б. Кутенков. «В ближайшее время я намереваюсь говорить глупости». Интервью с А. Конаковым // Лиterraтура. 2014. 6 октября.
Там же.
Пунктуация и орфография автора сохранены. – Ред.
Там же.
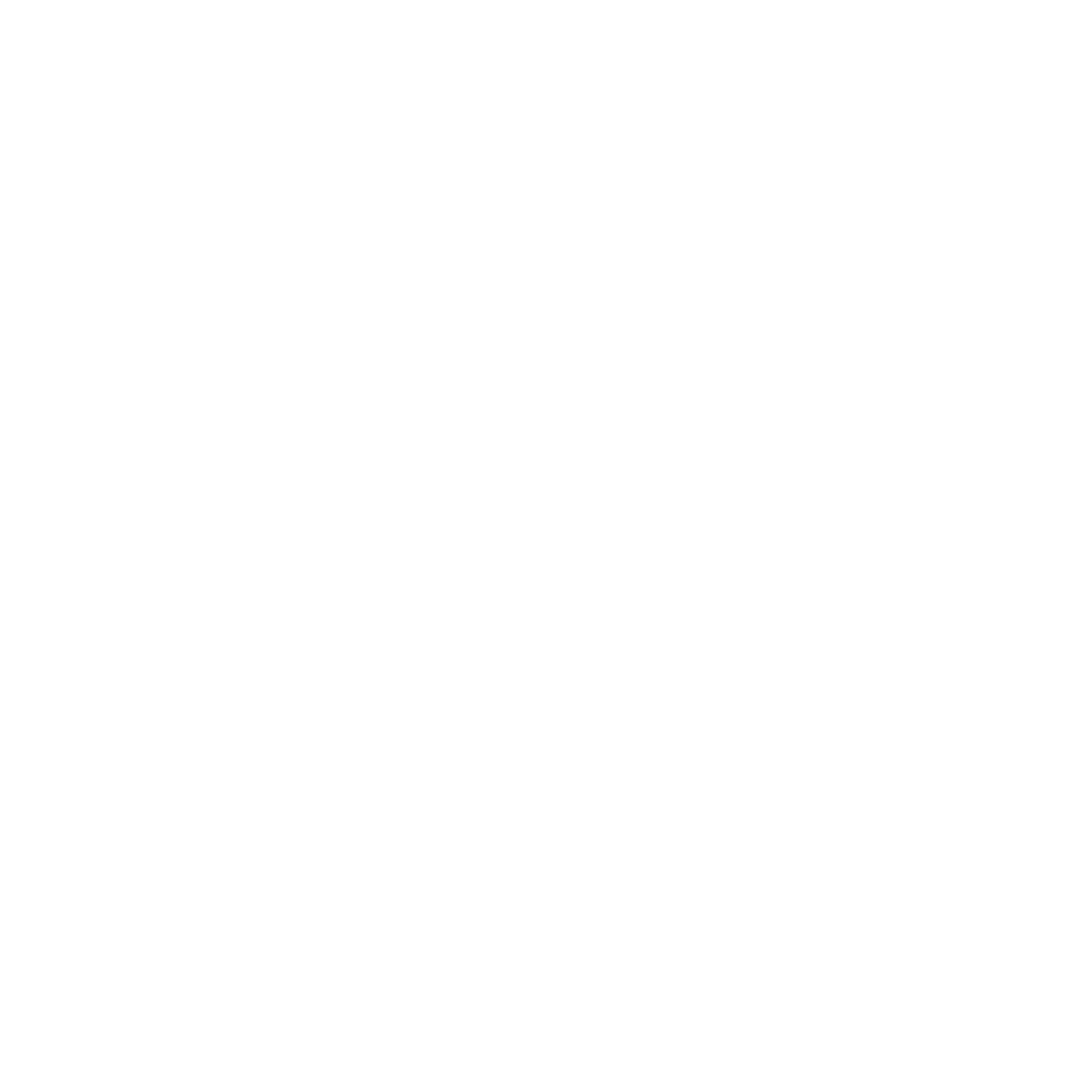
Сергей Морозов
Елена Пестерева в прошлом выпуске «Легкой кавалерии» написала о том, как важно критику быть культурным, об этикете с заездом в этику (а то, не дай бог, убьешь кого-нибудь рецензией, как Олег Лекманов). Не сорить, не выражаться, не ковырять в носу, не портить воздух. «Мой руки перед едой», «уважай старших», «будь примером для младших». В общем, обычное высказывание в духе «за все хорошее, против всего плохого».
Е. Пестерева. Критик должен быть… / Легкая кавалерия // Новая Юность. 2018. № 6.
Что ж, культура — дело замечательное, и вряд ли кто-то выступит против добра, красоты и истины в открытую (хотя все образованные люди знают, что их нет, и это тоталитарная пропаганда). Не потому, что это неправильно, а потому, что это опять-таки некультурно, так себя вести нельзя, по крайней мере, прилюдно.
Высказывание в пользу графы «поведение» между тем вполне характерно для нынешнего времени, когда вопросы внешнего характера вышли у нас на первый план, отодвинув на второй разговор по существу. Этикет и этика — прекрасное оружие в руках манипулятора. Что такое истина, поди разберись, а в грубости и хамстве мы все специалисты, особенно в чужом.
Борьба за примерное поведение в классе имеет, как правило, плачевные последствия. Агитация за чистую, честную, благородную критику обычно ведет к отказу от всякой критики. Вместо нее — любовь: Ольга Балла любит Александра Чанцева, Валерия Пустовая — Александра Снегирева, Алексей Колобродов — Захара Прилепина, и наоборот. Александр Евсюков вообще всех любит, без разбору, кто попадется. «Любовь — волшебная страна», но рецензии, статьи превращаются в итоге в нескончаемый набор комплиментов и поздравлений. Критика и так уже деградировала к обмену любезностями, к разговору с собеседником. Куда больше? В этой ситуации призыв быть еще более мягким и учтивым выглядит по меньшей мере странно.
Высказывание в пользу графы «поведение» между тем вполне характерно для нынешнего времени, когда вопросы внешнего характера вышли у нас на первый план, отодвинув на второй разговор по существу. Этикет и этика — прекрасное оружие в руках манипулятора. Что такое истина, поди разберись, а в грубости и хамстве мы все специалисты, особенно в чужом.
Борьба за примерное поведение в классе имеет, как правило, плачевные последствия. Агитация за чистую, честную, благородную критику обычно ведет к отказу от всякой критики. Вместо нее — любовь: Ольга Балла любит Александра Чанцева, Валерия Пустовая — Александра Снегирева, Алексей Колобродов — Захара Прилепина, и наоборот. Александр Евсюков вообще всех любит, без разбору, кто попадется. «Любовь — волшебная страна», но рецензии, статьи превращаются в итоге в нескончаемый набор комплиментов и поздравлений. Критика и так уже деградировала к обмену любезностями, к разговору с собеседником. Куда больше? В этой ситуации призыв быть еще более мягким и учтивым выглядит по меньшей мере странно.
Однако, призывая к честности и борьбе за истину, Пестерева не всегда сама придерживается провозглашаемых принципов.
Зубастость с размаху приравнивается ею к битью, расстрелу и всяческому насилию. Тут недалеко и до распространенного среди публики представления о том, что всякая отрицательная рецензия — донос, травля или заказуха, а критик — палач, Латунский, Смердяков и Шариков в одном лице, а также сталинский подголосок.
Ратуя за честность, Пестерева как-то упускает из виду, что чистосердечность высказывания ныне рассматривается как хамство, как прямой вызов обществу.
Правда груба (прошлогодняя дискуссия вокруг книги Старобинец это еще раз подтвердила). Она — самое неприятное, что только может быть на свете. Возмущение вызывает откровенное суждение о текущей ситуации: толстые журналы давно уже никакие не маяки, литература умерла, а то, что существует, является ее имитацией, литературная карьера в России невозможна и бессмысленна, эстетическое разделение давно заменено рваческим и т. д.
Зубастость с размаху приравнивается ею к битью, расстрелу и всяческому насилию. Тут недалеко и до распространенного среди публики представления о том, что всякая отрицательная рецензия — донос, травля или заказуха, а критик — палач, Латунский, Смердяков и Шариков в одном лице, а также сталинский подголосок.
Ратуя за честность, Пестерева как-то упускает из виду, что чистосердечность высказывания ныне рассматривается как хамство, как прямой вызов обществу.
Правда груба (прошлогодняя дискуссия вокруг книги Старобинец это еще раз подтвердила). Она — самое неприятное, что только может быть на свете. Возмущение вызывает откровенное суждение о текущей ситуации: толстые журналы давно уже никакие не маяки, литература умерла, а то, что существует, является ее имитацией, литературная карьера в России невозможна и бессмысленна, эстетическое разделение давно заменено рваческим и т. д.
Борьба за этикет в текущих условиях, как правило, превращается в борьбу с честностью, за которую вроде бы так ратуют на словах. Если что-то действительно плохо, с точки зрения критика, как тут сказать иначе? Есть ли смысл ходить вокруг да около?
Что более неэтично: вводить в заблуждение читателя и потворствовать авторскому самообману или назвать вещи своими именами?
Писатель или поэт без всякого стеснения кормит публику дурными текстами, не заботясь о ее внутреннем душевном равновесии, но рецензент обязательно должен помнить о хрупком мире горе-художника. Логика довольно странная. Двойные стандарты, игра в одни ворота.
На мой взгляд, нет ничего более циничного и аморального, чем введение в заблуждение, а именно это обычно вытекает из требования этикетности высказывания. Да, конечно, мы не должны передергивать, но в результате радения о приличиях передергиванием начинает считаться логическое развитие мысли оппонента, попытка вычленить смыслы из текста, а не только слепо следовать написанному, не выходя за рамки пересказа.
Так недолго договориться и до того, что любое прочтение из другой системы ценностей будет считаться некорректным и неэтичным. Этикетным требованием станет (и, похоже, уже стало) не только понимание, но и приятие чужого высказывания. А дальше в ход пойдут соображения политкорректного характера: нельзя ругать больных и умерших, женщин вообще и беременных в особенности, мужей, готовящихся стать отцами, детей и стариков, иноверцев и представителей нетитульной нации, дебютантов и тех, кто завершает карьеру (такое, в принципе, может случиться с каждым), людей уважаемых, потрудившихся на ниве литературы.
Писатель или поэт без всякого стеснения кормит публику дурными текстами, не заботясь о ее внутреннем душевном равновесии, но рецензент обязательно должен помнить о хрупком мире горе-художника. Логика довольно странная. Двойные стандарты, игра в одни ворота.
На мой взгляд, нет ничего более циничного и аморального, чем введение в заблуждение, а именно это обычно вытекает из требования этикетности высказывания. Да, конечно, мы не должны передергивать, но в результате радения о приличиях передергиванием начинает считаться логическое развитие мысли оппонента, попытка вычленить смыслы из текста, а не только слепо следовать написанному, не выходя за рамки пересказа.
Так недолго договориться и до того, что любое прочтение из другой системы ценностей будет считаться некорректным и неэтичным. Этикетным требованием станет (и, похоже, уже стало) не только понимание, но и приятие чужого высказывания. А дальше в ход пойдут соображения политкорректного характера: нельзя ругать больных и умерших, женщин вообще и беременных в особенности, мужей, готовящихся стать отцами, детей и стариков, иноверцев и представителей нетитульной нации, дебютантов и тех, кто завершает карьеру (такое, в принципе, может случиться с каждым), людей уважаемых, потрудившихся на ниве литературы.
Так из борьбы за все хорошее вырастает новый литературный порядок. Так возникает внешнее ограничение свободы критического высказывания соображениями приличий, пристойности, гуманности и т. д. Поведенческий критерий постепенно становится определяющим для деления критиков на правильных и неправильных, критиков и некритиков. Но поскольку за ним не стоит ничего, кроме требования лояльности и конформизма, примирения с нынешним состоянием критики без критики и текста без упрека и сомнения, сложившейся гласной и негласной иерархией, то в положении бескультурного всегда оказываются чужие, «не свои», несогласные. «Своим» дозволено все. У них по умолчанию в графе «поведение» всегда стоит «отлично», независимо от реального уровня хамства, грубости и степени предосудительности поступков.

Николай Подосокорский
За последнее время литературное сообщество понесло немало ощутимых потерь. Стало известно о закрытии многолетней премии «Русский Букер» и журнала поэзии «Арион», прекратил работу старый сайт «Журнального зала», и на создание нового собирали всем миром — координатор ЖЗ Сергей Костырко методично публиковал в своем фейсбуке подробные отчеты о ходе краудфандинга и благодарности всем, кто принял в нем участие. Однако собрать необходимые 560 тысяч рублей на запуск нового проекта удалось едва ли не в самый последний момент, хотя, к примеру, деньги на выплату 22-миллионного штрафа, наложенного властями на общественно-политический журнал Евгении Альбац «The New Times», в сети собрали с заметным превышением всего за четыре дня.
За последний год этот мир покинули Андрей Битов, Владимир Войнович, Филип Рот, Анатолий Гладилин, Наум Коржавин, Урсула Ле Гуин, Амос Оз, Уильям Голдман, Олег Павлов, Зинаида Миркина, Владимир Данихнов, Владимир Шаров, Эдуард Успенский, Видиадхар Сураджпрасад Найпол, Мария Спивак, Клод Сеньоль, Кристине Нёстлингер, Олег Юрьев, Андрей Дементьев, Валентина Синкевич, Михаил Герман, Лариса Васильева, Юрий Малецкий, Виктор Ширали, Хаим Гури, Павел Катаев и др. И это лишь краткий список умерших литераторов, не считая филологов и критиков.
Сама литературная критика давно переживает не лучшие времена, и сейчас почти нет оснований, чтобы не согласиться с Виктором Пелевиным, а точнее с его героем — литературным алгоритмом Порфирием Петровичем из романа «iPhuck 10»: «…никаких литературных критиков в наше время не осталось. Есть блогеры… То, что производит критик, — это личная субъективная оценка чужого труда. В точности то же самое выдает любой блогер, кого бы он ни оплевывал — районную управу, полицейский алгоритмический роман или Господа Бога. Те же несколько абзацев про „мне не нра“, которые видишь, перейдя по линку». В верности этого диагноза поневоле убеждаешься, когда на глаза попадаются некоторые обзоры и рецензии известных «профессиональных» критиков в модных интернет-изданиях.
Сама литературная критика давно переживает не лучшие времена, и сейчас почти нет оснований, чтобы не согласиться с Виктором Пелевиным, а точнее с его героем — литературным алгоритмом Порфирием Петровичем из романа «iPhuck 10»: «…никаких литературных критиков в наше время не осталось. Есть блогеры… То, что производит критик, — это личная субъективная оценка чужого труда. В точности то же самое выдает любой блогер, кого бы он ни оплевывал — районную управу, полицейский алгоритмический роман или Господа Бога. Те же несколько абзацев про „мне не нра“, которые видишь, перейдя по линку». В верности этого диагноза поневоле убеждаешься, когда на глаза попадаются некоторые обзоры и рецензии известных «профессиональных» критиков в модных интернет-изданиях.
На ютубе стартовал видеоканал координатора «Открытой библиотеки» Николая Солодникова, названный почему-то «ещенепознер», хотя по сути более точным его названием было бы «недовДудь», ибо он является подражанием шоу не столько Владимира Познера, сколько Юрия Дудя, с той лишь разницей, что ведущий избегает мата и эпатажа, а его гостями являются не политики и рэперы, а деятели культуры. Самый популярный на данный момент выпуск проекта — разговор с писателем Дмитрием Быковым — набрал более полумиллиона просмотров.
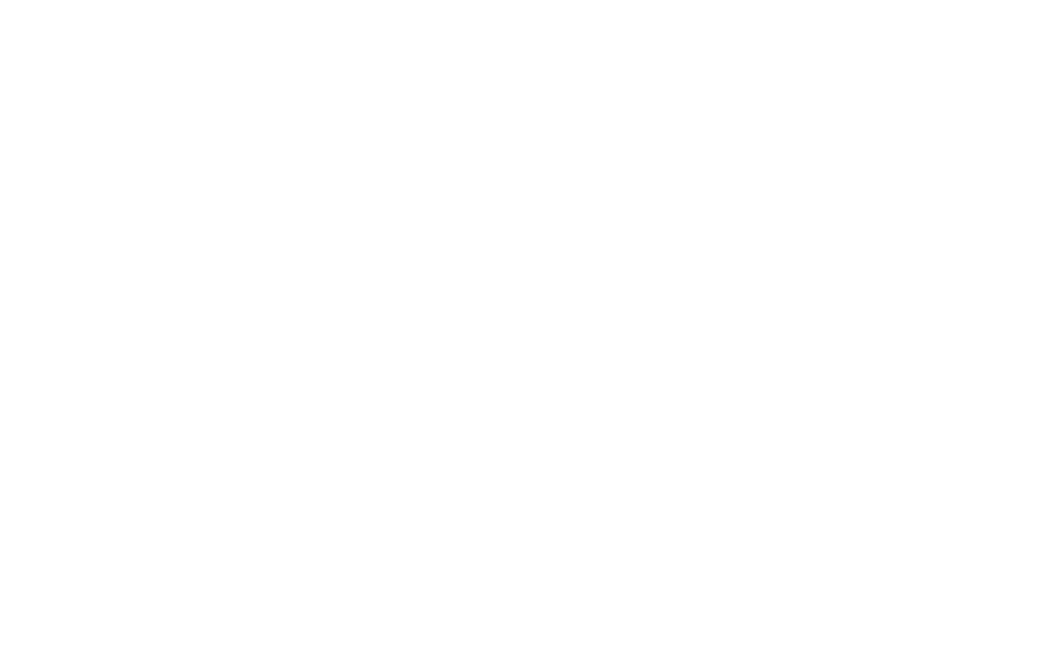
Появился и ряд интересных телеграм-каналов, пишущих о литературном процессе. Список некоторых из них, куда вошел и «Переборхес», прозванный «литературным Незыгарем», составил писатель Дмитрий Бавильский:
Согласно исследованию «Медиалогии», самым цитируемым в СМИ российским писателем в 2018 году стал Захар Прилепин. О нем, действительно, говорили часто, но, главным образом, в связи с его карьерой и общественно-политической позицией, а не литературными сочинениями. Самодовольный Прилепин признался в одном из весенних интервью: «Я последние два года вообще не писал книг в связи с переездом на Донбасс. В целом, мои доходы из-за этого очень сильно упали. И гастролей было меньше, и книг было меньше, и ряд иностранных издательств отказались сотрудничать: сказали, что они не будут иметь дело с террористом. Но потихоньку эта тема стала затихать, и они поняли, что все-таки выгодней меня тихонько покупать, тихонько продавать, чем совсем со мной дела не иметь». Карьерное продвижение Прилепина недавно проявилось в его избрании в состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта и назначении «замполитом», как шутили в соцсетях, то есть заместителем худрука МХАТ им. М. Горького по литературной части.
А. Орешкина. «Даже если я напишу "Колобок-3", мою книгу купят». Интервью с З. Прилепиным // Инвест-Форсайт. 2018. 27 мая.
Другой писатель-политик и коллега Прилепина по изданию «Свободная пресса», Сергей Шаргунов, являющийся депутатом Госдумы, пытался содействовать смягчению наказания россиян за лайки и репосты. Кстати, оба деятеля помимо интенсивной работы со СМИ весьма эффективно используют для личного пиара социальные сети — в одном только фейсбуке у Прилепина более 98 тысяч подписчиков, а у Шаргунова — более 34 тысяч.
Продолжает деградировать Русский ПЕН-центр во главе с Евгением Поповым, огрызающийся на появление в России нового отделения Международного ПЕН-клуба — ПЭН-Москва (его главой стал Александр Архангельский) — и публикующий на своем сайте скандальные письма вроде заявления о «зарубежных слепых поводырях», многие подписи под которым, например, Игоря Волгина, Олеси Николаевой, Владислава Отрошенко и других, как оказалось, были фальшивыми. В декабре Русский ПЕН-центр лишился не только одного из своих основателей, Андрея Битова, возглавлявшего эту организацию почти четверть века, но и директора Михаила Демченкова, уволенного якобы за финансовую нечистоплотность.
Продолжает деградировать Русский ПЕН-центр во главе с Евгением Поповым, огрызающийся на появление в России нового отделения Международного ПЕН-клуба — ПЭН-Москва (его главой стал Александр Архангельский) — и публикующий на своем сайте скандальные письма вроде заявления о «зарубежных слепых поводырях», многие подписи под которым, например, Игоря Волгина, Олеси Николаевой, Владислава Отрошенко и других, как оказалось, были фальшивыми. В декабре Русский ПЕН-центр лишился не только одного из своих основателей, Андрея Битова, возглавлявшего эту организацию почти четверть века, но и директора Михаила Демченкова, уволенного якобы за финансовую нечистоплотность.
Л. Чижова. «Зарубежные слепые поводыри». Новый скандал вокруг ПЕН-центра // Радио Свобода. 2018. 15 октября.
В Москве открыли мемориальную доску писателю Юрию Нагибину и установили памятник Александру Солженицыну, в связи со столетием со дня его рождения.
Из курьезов можно отметить обвинение в расизме автора романа-эпопеи «Властелин колец» со стороны американского фантаста Энди Дункана, посетовавшего на ненависть героев Толкина к расе орков, являющихся просто другими и никак не заслуживающих дурного к себе отношения и тем более истребления.
В финале – составленный мной в январе топ-50 лучших книг 2018 года.
Из курьезов можно отметить обвинение в расизме автора романа-эпопеи «Властелин колец» со стороны американского фантаста Энди Дункана, посетовавшего на ненависть героев Толкина к расе орков, являющихся просто другими и никак не заслуживающих дурного к себе отношения и тем более истребления.
В финале – составленный мной в январе топ-50 лучших книг 2018 года.

Алексей Саломатин
И хотелось бы начать за здравие, да опять все не слава богу.
Не успели дружно выдохнуть по случаю благополучного завершения краудфандинговой эпопеи с «Журнальным залом — 2» — грянуло откуда не ждали: объявил о своем закрытии журнал «Арион». Только что отметивший четвертьвековой юбилей, он, с первых номеров принятый в семью литературных «толстяков» не младшим братом, а равным среди равных, казался в этой семье, пожалуй, самым стрессоустойчивым и ударостойким. Так что известие застало всех врасплох похлеще финала «Пролетая над гнездом кукушки».
Не успели дружно выдохнуть по случаю благополучного завершения краудфандинговой эпопеи с «Журнальным залом — 2» — грянуло откуда не ждали: объявил о своем закрытии журнал «Арион». Только что отметивший четвертьвековой юбилей, он, с первых номеров принятый в семью литературных «толстяков» не младшим братом, а равным среди равных, казался в этой семье, пожалуй, самым стрессоустойчивым и ударостойким. Так что известие застало всех врасплох похлеще финала «Пролетая над гнездом кукушки».
Вообще, есть какая-то ядовитая ирония в этой инверсии хрестоматийного сюжета: сумасшедший корабль, пусть давно давший течь и тянущий на одном весле, покидает соименник таинственного певца…
Впрочем, лить слезы по живому (нас еще ожидает финальный номер) — не время и не место. Уместнее задуматься о роли «Ариона» в отечественном литературном процессе.
Впрочем, лить слезы по живому (нас еще ожидает финальный номер) — не время и не место. Уместнее задуматься о роли «Ариона» в отечественном литературном процессе.
«Арион» был и остается единственным в России специализированным поэтическим журналом (можно долго сотрясать воздух, произнося громкие слова, но: был и остается). На протяжении двадцати пяти лет на его страницах был представлен срез текущей русскоязычной поэзии и отклики на последнюю (часто — полярные) в формате от краткой рецензии до развернутой проблемной статьи. Не считая переводов, архивов, мистификаций и многого другого.
При этом рядом с подборкой маститого автора вполне мог быть опубликован героически выловленный из самотека опыт никому не известного стихотворца — возможно, вообще единственное достойное печати из созданного им за годы упорного литературного труда. Можно сколько угодно спорить о вкусах редакции, но в целом панорама получалась вполне репрезентативная. И закрытие «Ариона» скажется в первую очередь на детальности ландшафта: литературные генералы и майоры рассредоточатся по уцелевшим журналам, рядовую же массу останется лишь вынести за скобки. На смену срезу придет выборка, а интересующийся поэзией читатель вынужденно окажется в разреженном контексте (о штудировании читателем в попытке этот контекст восстановить литературных порталов и изданных на авторские средства сборников говорить всерьез как-то нелепо).
При этом рядом с подборкой маститого автора вполне мог быть опубликован героически выловленный из самотека опыт никому не известного стихотворца — возможно, вообще единственное достойное печати из созданного им за годы упорного литературного труда. Можно сколько угодно спорить о вкусах редакции, но в целом панорама получалась вполне репрезентативная. И закрытие «Ариона» скажется в первую очередь на детальности ландшафта: литературные генералы и майоры рассредоточатся по уцелевшим журналам, рядовую же массу останется лишь вынести за скобки. На смену срезу придет выборка, а интересующийся поэзией читатель вынужденно окажется в разреженном контексте (о штудировании читателем в попытке этот контекст восстановить литературных порталов и изданных на авторские средства сборников говорить всерьез как-то нелепо).
Вообще, задача литературного журнала, помимо формирования литературного пространства, еще и в — по возможности — добросовестном этого пространства представлении. В нынешней ситуации литературного перепроизводства сориентироваться во всей массе печатной продукции не под силу и профессиональному филологу. И роль редакционного отбора как некоего первичного фильтра трудно переоценить — если еще столетие назад толстый журнал знакомил читателя с новинками литературы, то теперь помогает в том числе избежать нежелательных знакомств — при разнообразии эстетических платформ и предпочтений художественно значимому произведению не миновать публикации не в одном, так в другом издании.
Сказанное представляется настолько очевидным, что и говорить об этом было бы неприлично, если бы в последнее время не стали активно раздаваться реплики об исчерпанности института толстых журналов в целом. Тем удивительнее, что реплики эти раздаются из стана критики — сегмента, без литературной периодики обреченного.
Сказанное представляется настолько очевидным, что и говорить об этом было бы неприлично, если бы в последнее время не стали активно раздаваться реплики об исчерпанности института толстых журналов в целом. Тем удивительнее, что реплики эти раздаются из стана критики — сегмента, без литературной периодики обреченного.
В качестве альтернативы предлагаются литературные блоги и книжные каналы на ютубе.
Желание идти в ногу со временем, безусловно, похвально, хотя все это, конечно, очень напоминает слова персонажа советского оскароносца о том, что скоро не будет ни кино, ни театра, а одно сплошное телевидение. Да и за прогрессивной сменой формата угадывается попытка построения очередной альтернативной иерархии, что само по себе и не ново. Ново то, что базируется эта иерархия на легитимизации дилетантизма, пусть прямо и не называемого.
Простой пример. Большинство читающих эти строки узнает прогноз погоды не в урочный час в теленовостях, а из приложения в телефоне или на специализированном сайте. Однако во всех случаях прогноз основывается на данных, полученных профессионалами, меняется лишь формат ретрансляции этих данных. Можно, впрочем, ориентироваться и на самочувствие проверенной соседки — спину ломит к ненастью, нос чешется на вёдро. И предсказания эти вполне могут не уступать в точности сведениям Гидрометцентра. Вот только если прогноз не сбудется, предъявлять претензии будет несколько странно…
Простой пример. Большинство читающих эти строки узнает прогноз погоды не в урочный час в теленовостях, а из приложения в телефоне или на специализированном сайте. Однако во всех случаях прогноз основывается на данных, полученных профессионалами, меняется лишь формат ретрансляции этих данных. Можно, впрочем, ориентироваться и на самочувствие проверенной соседки — спину ломит к ненастью, нос чешется на вёдро. И предсказания эти вполне могут не уступать в точности сведениям Гидрометцентра. Вот только если прогноз не сбудется, предъявлять претензии будет несколько странно…
Профессионал отличается от дилетанта не тем, что безукоризненно компетентен или априори застрахован от ошибок, а степенью ответственности за свои действия. Коротко: с профессионала есть спрос.
К существующим толстым журналам, разумеется, тоже есть масса вопросов. Но вопросы эти не бессмысленны именно потому, что деятельность журналов относится к сфере деятельности профессиональной, предполагающей дискуссии и обязывающей к аргументированности тезисов.
Блогер же, ставя новомодного рэпера выше Пушкина, просто озвучивает частное мнение, а републикуя чудовищную графоманию за подписью Пастернака — демонстрирует искреннее заблуждение.
Блогер же, ставя новомодного рэпера выше Пушкина, просто озвучивает частное мнение, а републикуя чудовищную графоманию за подписью Пастернака — демонстрирует искреннее заблуждение.
Это вовсе не означает, что все авторы литературных постов — помешанные на хайпе невежды. Но само пространство блога автоматически уравнивает в правах обоснованное суждение и произвольную оценочность, тем самым упраздняя первое, а следовательно — необходимость знать историю вопроса, ориентироваться в контексте, анализировать факты, обладать элементарными представлениями о предмете… Окно Овертона не стоит на месте.
И взятки, как говорится, гладки. Потому что блогерам закон не писан. Если это не закон Даннинга — Крюгера.
…а корабль плывет.
И взятки, как говорится, гладки. Потому что блогерам закон не писан. Если это не закон Даннинга — Крюгера.
…а корабль плывет.
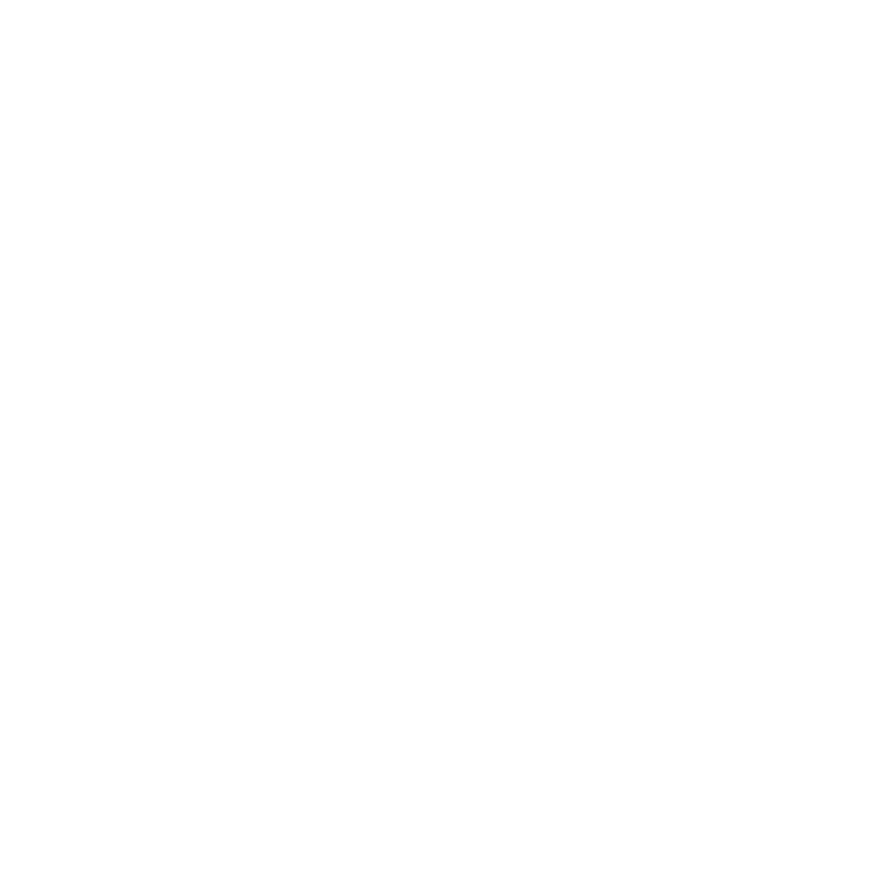
Кирилл Молоков
Современная наука предлагает множество дисциплин и практик на стыке разных учений — вроде психолингвистики или геоинженерии. Интернет практически добил телевидение, а разговоры о космическом туризме и колонизации Марса перестают вызывать насмешливую улыбку. Глупо полагать, что в таком быстро развивающемся мире искусство будет стоять на месте — напротив, в первую очередь именно оно обязано предлагать новые идеи и формы. И, надо сказать, пока ему это, в общем-то, удается: современные музеи заполонили инсталляции, профессиональные художники все чаще стали отдавать предпочтение геймдизайну и мультипликации, а найти какой-нибудь сильный поэтический текст стало гораздо проще, разбирая лирику номинантов на крупные музыкальные премии в жанре рэп-музыки. Искусство меняется, и если когда-то литература в ее классическом понимании спокойно пережила возникновение графического романа, а в дальнейшем и комиксов, то сегодня в мире амбициозных технологических проектов — вроде тех, о которых заявляет Илон Маск — литературе придется как минимум побороться за свой привычный вид.
Феномен интерактивной литературы (Interactive Fiction) появился в 1975 году, когда американский программист Уилл Кроутер создал первый в мире текстовый квест «Colossoal Cave Adventure», формально положивший начало целому компьютерному жанру — приключенческим играм.
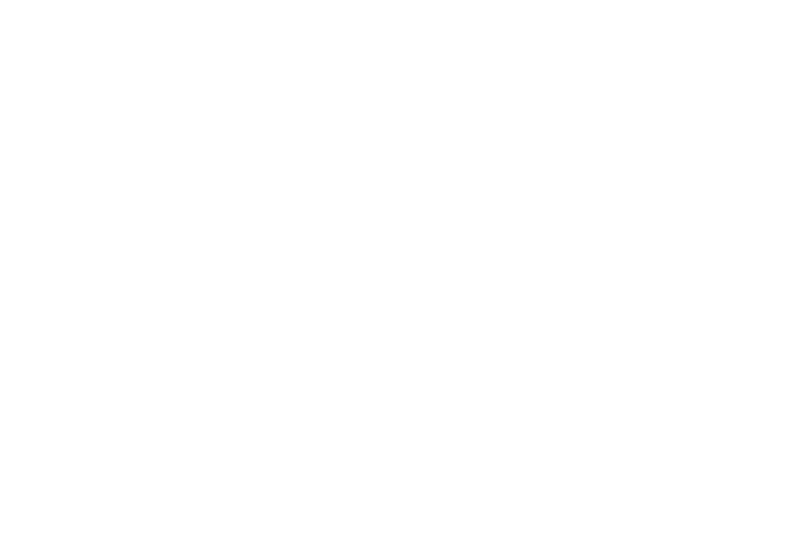
Игроку предоставлялось управление персонажем, которое осуществлялось с помощью коротких текстовых команд, и описание происходящего вследствие их реализации. Основной смысл квеста заключался в поиске сокровищ в виртуально созданной пещере.
И хотя в наше время подобная игра кажется крайне примитивной, именно она заложила основы и ключевые механизмы всей интерактивной литературы. Что касается самого определения этого явления, то его можно очень коротко изложить в главном отличии от литературы классической: интерактивная литература предполагает задействованность читателя в происходящем, в то время как классическая литература строится сугубо на наблюдении.
С появлением высокоуровневых языков программирования и общего развития компьютерных технологий интерактивная литература стала сильно усложняться. От простых текстовых квестов она перешла к сложным приключенческим играм с запутанным сюжетом и более тонко продуманными персонажами, имеющими не только графический облик, но и характер, непосредственное влияние на который, как и вообще на сюжет, оказывал сам читатель/игрок. Фактически у интерактивной литературы нет какого-то деления на жанры, а понятия «квест» или «приключенческая игра» иногда используются в качестве синонимов, однако я бы предпочел разграничить эти термины, условно поделив интерактивную литературу на три поджанра: квесты или приключенческие игры, книги-игры, визуальные романы (не путать с графическим романом). О первой категории мы уже поговорили, и технически ее скорее можно отнести к игровой индустрии, нежели к литературе. Куда больший интерес представляют другие две разновидности, названия которых говорят сами за себя.
С появлением высокоуровневых языков программирования и общего развития компьютерных технологий интерактивная литература стала сильно усложняться. От простых текстовых квестов она перешла к сложным приключенческим играм с запутанным сюжетом и более тонко продуманными персонажами, имеющими не только графический облик, но и характер, непосредственное влияние на который, как и вообще на сюжет, оказывал сам читатель/игрок. Фактически у интерактивной литературы нет какого-то деления на жанры, а понятия «квест» или «приключенческая игра» иногда используются в качестве синонимов, однако я бы предпочел разграничить эти термины, условно поделив интерактивную литературу на три поджанра: квесты или приключенческие игры, книги-игры, визуальные романы (не путать с графическим романом). О первой категории мы уже поговорили, и технически ее скорее можно отнести к игровой индустрии, нежели к литературе. Куда больший интерес представляют другие две разновидности, названия которых говорят сами за себя.
Если вновь углубиться в историю, то можно обнаружить, что прообразы книг-игр появились еще до возникновения самого феномена интерактивной литературы. Самым первым, пожалуй, можно считать произведение Хорхе Луиса Борхеса «Анализ творчества Герберта Куэйна» — рассказ из трех частей, предлагающий две сюжетные линии, которые приводят к девяти разным финалам.
В дальнейшем подобные книги стали выпускаться в 1950–1960-х годах и часто предназначались для образовательных целей. Однако привлекательное сюжетное ветвление, превращавшее даже самую заурядную книгу в занимательную игру, быстро вышло за академические рамки, и в 1970-х книги-игры стали очень популярны и заняли особую нишу на литературном рынке. Как вы поняли, сам принцип работы подобных книг часто строится на простом читательском выборе, в зависимости от которого осуществляется переход на разные параграфы, по-своему двигающие сюжет.
Но куда больший интерес представляют визуальные романы (от японского бидзюару нобэру), пользующиеся огромной популярностью в Японии, где этот жанр доминирует как на литературном, так и на игровом рынке. Если коротко, то визуальный роман — это тот же обычный роман в электронной форме, но без внешних описаний: локаций и персонажей. Их взяла на себя компьютерная графика, однако при этом игровой процесс здесь сведен к самому минимуму — мечом тут не помахать, да и вообще приходится очень много читать, а вместо клавиш кликать левую кнопку мыши или использовать лишь один палец на смартфоне. Одним словом, визуальный роман — это книга-игра с визуализированными внешними атрибутами, которые крайне статичны и представляют собой лишь приятное графическое дополнение к чтению.
Но куда больший интерес представляют визуальные романы (от японского бидзюару нобэру), пользующиеся огромной популярностью в Японии, где этот жанр доминирует как на литературном, так и на игровом рынке. Если коротко, то визуальный роман — это тот же обычный роман в электронной форме, но без внешних описаний: локаций и персонажей. Их взяла на себя компьютерная графика, однако при этом игровой процесс здесь сведен к самому минимуму — мечом тут не помахать, да и вообще приходится очень много читать, а вместо клавиш кликать левую кнопку мыши или использовать лишь один палец на смартфоне. Одним словом, визуальный роман — это книга-игра с визуализированными внешними атрибутами, которые крайне статичны и представляют собой лишь приятное графическое дополнение к чтению.
Очень долгое время, несмотря на свою массовость и популярность в определенных кругах, визуальные романы, как и большинство книг-игр оставались довольно узким направлением, которое не было способно оказать существенное влияние на литературу в целом, однако с выходом в 2009 году романа «Врата Штейна», разработанного компаниями 5pb. и Nitroplus, к этому жанру стали относиться несколько серьезнее. С виду обычный, пусть и хорошо прорисованный, интерактивный роман в стилистике японской манги продемонстрировал гигантский потенциал этого жанра, избавившись от избитых поп-клише.
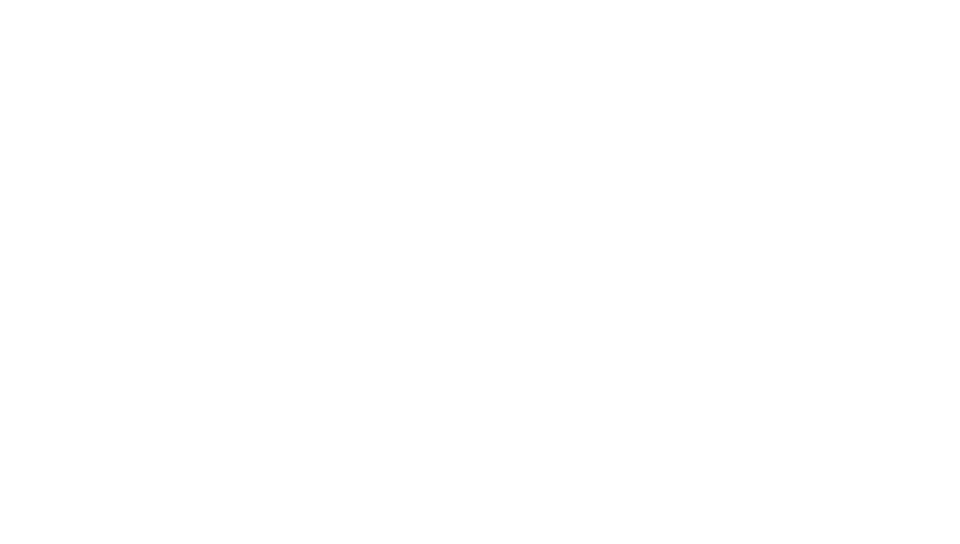
«Врата Штейна» — это приключенческая научная фантастика с элементами триллера и драмы, тонко продуманным сюжетом и персонажами, причем читателю, принимающему в романе непосредственное участие, не всегда удается влиять на судьбы героев так, как бы ему хотелось.
Пока интерактивная литература, главным образом визуальные романы, носит довольно попсовый характер, лишь периодически рождая действительно стоящие вещи. Однако этот жанр только начинает набирать обороты и отлично встраивается в постмодернистское пространство, где напрочь стерты понятия автора и всяких границ. Учитывая его тесную связь с технологиями, есть вероятность, что к середине столетия Нобелевскую премию может получить автор, специализирующийся исключительно на визуальных романах.
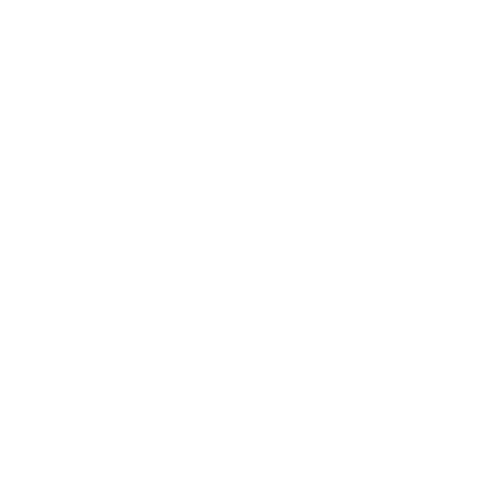
Александр Мурашев
«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными», — бросил на прощание аудитории Стив Джобс в своей легендарной речи перед выпускниками Стэнфордского университета. Вот только этому совету следуют не все писатели. Причем, как ни парадоксально, за последние два века в отношениях литераторов с деньгами не поменялось почти ничего.
Если бы в мире выдавали премию за самый оригинальный гонорар в истории, то его бы вручили Харпер Ли, когда-то получившей от друзей записку: «У тебя есть один год отпуска, чтоб написать все, что тебе хочется. Счастливого Рождества». К этому сообщению прилагался чек на сумму, равную ее годовой зарплате клерка по продаже авиабилетов.
Если бы в мире выдавали премию за самый оригинальный гонорар в истории, то его бы вручили Харпер Ли, когда-то получившей от друзей записку: «У тебя есть один год отпуска, чтоб написать все, что тебе хочется. Счастливого Рождества». К этому сообщению прилагался чек на сумму, равную ее годовой зарплате клерка по продаже авиабилетов.
«Убить пересмешника», который Ли написала за это время, принес автору Пулитцеровскую премию и мировую славу. А всем остальным показал, как может выглядеть писательский Рай: возможность каждое утро садиться за лист с текстом — и не отвлекаться больше ни на что.
В современном мире писатели знают себе цену и умеют «продать ручку» не хуже волков с Уолл-стрит (которые тоже пишут бестселлеры). Британский классик Мартин Эмис долгое время был на первых полосах таблоидов, получив за роман «Информация» аванс в 500 тысяч фунтов стерлингов. Стивен Кинг буквально стравил два издательства между собой за право публиковать его роман «Мешок с костями», запросив гонорар в виде 18 миллионов долларов. В обоих случаях мотивом была не только жадность и личные траты авторов, но и желание утереть нос своим главным конкурентам: Эмис собирался обставить Джулиана Барнса, а Кинг — отправить в финансовый нокаут Тома Клэнси. И для обоих авторов вся эта шумиха закончилась не только откровенно слабыми работами, но и серией публичных раскаяний. В порыве самобичевания Кинг даже утверждал, что «будь у него возможность повернуть время вспять, он бы продал книгу за один доллар».
Российские авторы оперируют куда более скромными суммами, да и гордо оставлять на визитке «писатель» как минимум без приставки «журналист» получается у незначительного процента современных литераторов. Но копни глубже — и выяснится, что за два века почти ничего не изменилось. Вопрос оплаты своего труда и дилемма «тварь я дрожащая или право на большой гонорар имею» не зависят от места или времени, однако неизменно выявляют в людях способность оценить (или переоценить) свой труд.
В современном мире писатели знают себе цену и умеют «продать ручку» не хуже волков с Уолл-стрит (которые тоже пишут бестселлеры). Британский классик Мартин Эмис долгое время был на первых полосах таблоидов, получив за роман «Информация» аванс в 500 тысяч фунтов стерлингов. Стивен Кинг буквально стравил два издательства между собой за право публиковать его роман «Мешок с костями», запросив гонорар в виде 18 миллионов долларов. В обоих случаях мотивом была не только жадность и личные траты авторов, но и желание утереть нос своим главным конкурентам: Эмис собирался обставить Джулиана Барнса, а Кинг — отправить в финансовый нокаут Тома Клэнси. И для обоих авторов вся эта шумиха закончилась не только откровенно слабыми работами, но и серией публичных раскаяний. В порыве самобичевания Кинг даже утверждал, что «будь у него возможность повернуть время вспять, он бы продал книгу за один доллар».
Российские авторы оперируют куда более скромными суммами, да и гордо оставлять на визитке «писатель» как минимум без приставки «журналист» получается у незначительного процента современных литераторов. Но копни глубже — и выяснится, что за два века почти ничего не изменилось. Вопрос оплаты своего труда и дилемма «тварь я дрожащая или право на большой гонорар имею» не зависят от места или времени, однако неизменно выявляют в людях способность оценить (или переоценить) свой труд.
Классикам русской литературы приходилось либо писать много и быстро, либо быть наглыми и уверенными в себе переговорщиками.
Несколько лет назад журналисты подсчитали ежемесячный доход самой плодовитой российской писательницы Дарьи Донцовой: он составлял 130 тысяч долларов в месяц. Школьникам, с ненавистью штудирующим Достоевского перед экзаменами, наверняка бы пришлось по душе, что Федор Михайлович писал так много потому, что для него это было единственным способом заработать. Своего «Игрока» писатель успел закончить за 26 дней.
«От бедности я принужден торопиться, а писать для денег, следовательно, непременно портить», — писал Достоевский.
Вплоть до самых «Братьев Карамазовых» Достоевский оставался одним из самых низкооплачиваемых писателей: похождения Родиона Раскольникова, «Идиот» и «Бесы» были приняты за 150 рублей за печатный лист. Сравните это с Толстым, чьему напору позавидовали бы Эмис и Кинг вместе взятые: «Войну и мир» и «Анну Каренину» писатель отдавал в «Русский вестник» по 500 рублей за печатный лист, а к последнему роману «Воскресение» эта цифра выросла вдвое.
Писатель — почти как врач: мы не мыслим об этой профессии применительно к деньгам. Создание произведений на века в своих лучших проявлениях — это про собственные чувства, разоблачение, боль и эмоции, но никак не про деньги. Поэтому так удивительно узнавать, что Тургенев был одним из самых высокооплачиваемых писателей, получая около четырех тысяч рублей и опережая даже Чехова, получавшего на пятьсот рублей меньше. Или что так же, как и современные писатели, классики русской литературы обладали побочными доходами: у Толстого, Тургенева и Фета они были с поместий, Гончаров и Тютчев зарабатывали в цензуре, а Чехов — врачом.
Возможно, большинству из нас пора перестать делать вид, что писательство — исключительно способ выплеснуть свои эмоции. Нет, писатели выбивают лучшую цену за свои работы и заказывают себе первый класс на рейсах самых дорогих авиалиний — как Тони Парсонс, летевший на книжную ярмарку в Дубай (а потом ловивший на себе полные ненависти взгляды коллег). Как только авторы ставят точку, они все равно проверяют свои банковские реквизиты, а талант литератора не отменяет умения достойно его окупить.
И только время покажет, кто из них станет классиком: тот, кто был лучшим переговорщиком, или тот, кто написал больше книг.
Писатель — почти как врач: мы не мыслим об этой профессии применительно к деньгам. Создание произведений на века в своих лучших проявлениях — это про собственные чувства, разоблачение, боль и эмоции, но никак не про деньги. Поэтому так удивительно узнавать, что Тургенев был одним из самых высокооплачиваемых писателей, получая около четырех тысяч рублей и опережая даже Чехова, получавшего на пятьсот рублей меньше. Или что так же, как и современные писатели, классики русской литературы обладали побочными доходами: у Толстого, Тургенева и Фета они были с поместий, Гончаров и Тютчев зарабатывали в цензуре, а Чехов — врачом.
Возможно, большинству из нас пора перестать делать вид, что писательство — исключительно способ выплеснуть свои эмоции. Нет, писатели выбивают лучшую цену за свои работы и заказывают себе первый класс на рейсах самых дорогих авиалиний — как Тони Парсонс, летевший на книжную ярмарку в Дубай (а потом ловивший на себе полные ненависти взгляды коллег). Как только авторы ставят точку, они все равно проверяют свои банковские реквизиты, а талант литератора не отменяет умения достойно его окупить.
И только время покажет, кто из них станет классиком: тот, кто был лучшим переговорщиком, или тот, кто написал больше книг.
Ф. М. Достоевский. Письма. Книга первая. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. С. 289.

Дмитрий Бавильский
Недавно наткнулся в своей ФБ-ленте на ламентации одной поэтессы, чьи стихотворные тексты подверглись редакторской правке в «Новой Юности».
Понятно, что прозу можно и нужно править, — она порой слишком обширна, чтобы удерживать в авторской голове все мелочи, особенно замыленному глазу, что смотрит, но не видит погрешностей.
Однако я не понимаю, как можно внедряться в лирику, суть которой — предельная субъективность высказывания, где каждое слово и даже синтаксический знак стоят на своем законном месте только оттого, что автор их туда поставил.
Понятно, что прозу можно и нужно править, — она порой слишком обширна, чтобы удерживать в авторской голове все мелочи, особенно замыленному глазу, что смотрит, но не видит погрешностей.
Однако я не понимаю, как можно внедряться в лирику, суть которой — предельная субъективность высказывания, где каждое слово и даже синтаксический знак стоят на своем законном месте только оттого, что автор их туда поставил.
Поэзия — не просто езда в незнаемое, но и максимальное художественное своеволие, позволяющее автору сказать: «а я так вижу» и быть поэтому всегда правым.
Впрочем, и проза может базироваться на каких-то неочевидных авторских приоритетах, не слишком заметных со стороны: то, что редактору может показаться небрежностью, вполне возможно, является неразгаданной игрой, неочевидным оммажем или несчитанной цитацией (сколько раз так было, когда отмашки в сторону дореволюционного правописания выглядели простыми описками)…
Впрочем, и проза может базироваться на каких-то неочевидных авторских приоритетах, не слишком заметных со стороны: то, что редактору может показаться небрежностью, вполне возможно, является неразгаданной игрой, неочевидным оммажем или несчитанной цитацией (сколько раз так было, когда отмашки в сторону дореволюционного правописания выглядели простыми описками)…
Не говоря уже об особом выстраивании ритма, требующем определенных конструкций, и создания той самой «особой интонации», которая, кажется и отличает «высокую прозу» от банальной беллетристики.
Но я сейчас рассуждаю не о странностях авторских намерений, проявляющихся в расшатывании жанров и дискурсов, но про редакторскую смелость, позволяющую вмешиваться в чужие конструкции с позиции того, «как надо».
Гарольд Блум в своем знаменитом «Западном каноне» говорит о том, что неправильности и шероховатости текста вполне могут говорить о незаурядности замысла и исполнения, так как наиболее великие книги нашего мира — воплощенная тревога и вопиющая неправильность, опрокидывающая наши читательские ожидания.
Так вот, редактор чувствует себя увереннее автора, во-первых, потому что в лице своем представляет «редакцию», медиа или издательство, имеющие собственный формат, то есть представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, но не в абсолютных величинах, а в рамках одной отдельно взятой институции.
Но я сейчас рассуждаю не о странностях авторских намерений, проявляющихся в расшатывании жанров и дискурсов, но про редакторскую смелость, позволяющую вмешиваться в чужие конструкции с позиции того, «как надо».
Гарольд Блум в своем знаменитом «Западном каноне» говорит о том, что неправильности и шероховатости текста вполне могут говорить о незаурядности замысла и исполнения, так как наиболее великие книги нашего мира — воплощенная тревога и вопиющая неправильность, опрокидывающая наши читательские ожидания.
Так вот, редактор чувствует себя увереннее автора, во-первых, потому что в лице своем представляет «редакцию», медиа или издательство, имеющие собственный формат, то есть представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, но не в абсолютных величинах, а в рамках одной отдельно взятой институции.
И то, что для одних ошибка, для других — символ и воплощение авторского своеобразия, его неповторимости
Когда после второго класса я поменял школу, то был отличником. Однако, на новом месте не вылезал из четверок, так как оказалось, что учили нас не сумме знаний, но умениям прогибаться под конкретные правила и обстоятельства.
Во-вторых, редактор идет по уже написанному, то есть придуманному и осуществленному, сделанному другим человеком, который, конечно, может быть странным и чудаковатым (беззащитным и наивным), но тем не менее вот этот чудила и есть автор мира, возникшего буквально на пустом месте.
Если бы это странное существо не село перед чистым листом бумаги или же перед открытым файлом, в котором первоначально не было ни буквы, то редактору нечего было бы редактировать.
Во-вторых, редактор идет по уже написанному, то есть придуманному и осуществленному, сделанному другим человеком, который, конечно, может быть странным и чудаковатым (беззащитным и наивным), но тем не менее вот этот чудила и есть автор мира, возникшего буквально на пустом месте.
Если бы это странное существо не село перед чистым листом бумаги или же перед открытым файлом, в котором первоначально не было ни буквы, то редактору нечего было бы редактировать.
Сочинение — всегда первопуток: заснеженное поле, в котором нет ни единого следа. Да и самой этой снежной равнины, кстати, тоже не существует, пока ее не воплотят в словах.
Автор с нуля поднимает громаду концепции в частностях и деталях, а также в общем целом, а уже потом приходят редактора и корректоры, чей вклад может быть существенным, но никогда не основополагающим.
Вот только почему-то в бытовых и деловых отношениях это постоянно забывается…
Почему?
Автор с нуля поднимает громаду концепции в частностях и деталях, а также в общем целом, а уже потом приходят редактора и корректоры, чей вклад может быть существенным, но никогда не основополагающим.
Вот только почему-то в бытовых и деловых отношениях это постоянно забывается…
Почему?
Первородство так или иначе остается за прозаиком или — тем более — за поэтом, которому нанимают человека для улучшений уже готового текста.
Точнее, так: для доведения чужой работы до предпубликационного (читай: предпродажного) состояния. В любом случае, редактор даже не вторичен. Он исправляет мелкие или, окей, крупные погрешности, но не суть произведения, так как если его (произведение) окончательно перестроить, это будет уже какое-то другое сочинение с двойным авторством.
Редактор выступает будто бы из презумпции повышенной личной ответственности, не позволяющей ему пропускать очевидные, с его точки зрения и персонального (редакционного) вкуса погрешности, но на самом-то деле вся ответственность целиком и полностью лежит на авторе, имя и фамилию которого выносят на обложку или же ставят в заголовочном комплексе.
Но именно эта легкость, с какой распоряжаются результатами чужих изобретений, будто бы приподымает такого редактора (так и хочется назвать его «плохим», так как «хороший» профессионал, как та «лошадь просвещения», стремится «умереть» в подопечном тексте) над растяпой автором — и о чем он там, вообще, думал, называя Бабеля Бебелем?
Редактор выступает будто бы из презумпции повышенной личной ответственности, не позволяющей ему пропускать очевидные, с его точки зрения и персонального (редакционного) вкуса погрешности, но на самом-то деле вся ответственность целиком и полностью лежит на авторе, имя и фамилию которого выносят на обложку или же ставят в заголовочном комплексе.
Но именно эта легкость, с какой распоряжаются результатами чужих изобретений, будто бы приподымает такого редактора (так и хочется назвать его «плохим», так как «хороший» профессионал, как та «лошадь просвещения», стремится «умереть» в подопечном тексте) над растяпой автором — и о чем он там, вообще, думал, называя Бабеля Бебелем?
Если что, то автор этой заметки побывал в обеих ипостасях — как рассеянного автора, так и незлобливого редактора, старающегося не испортить исходный материал, но как можно сильнее проявить в нем базовую потенцию сочинителя.
Так что мне порой доставалось с обеих сторон. Но я точно знаю, что никогда не пытался поставить себя выше тех, с кем доводилось работать. Потому что, если вместо Бабеля автор пишет про Бебеля, это может означать, что он работает над продолжением.
Над вторым или даже третьим томом.
Чтобы потом мне тоже было что подредактировать.
Так что мне порой доставалось с обеих сторон. Но я точно знаю, что никогда не пытался поставить себя выше тех, с кем доводилось работать. Потому что, если вместо Бабеля автор пишет про Бебеля, это может означать, что он работает над продолжением.
Над вторым или даже третьим томом.
Чтобы потом мне тоже было что подредактировать.
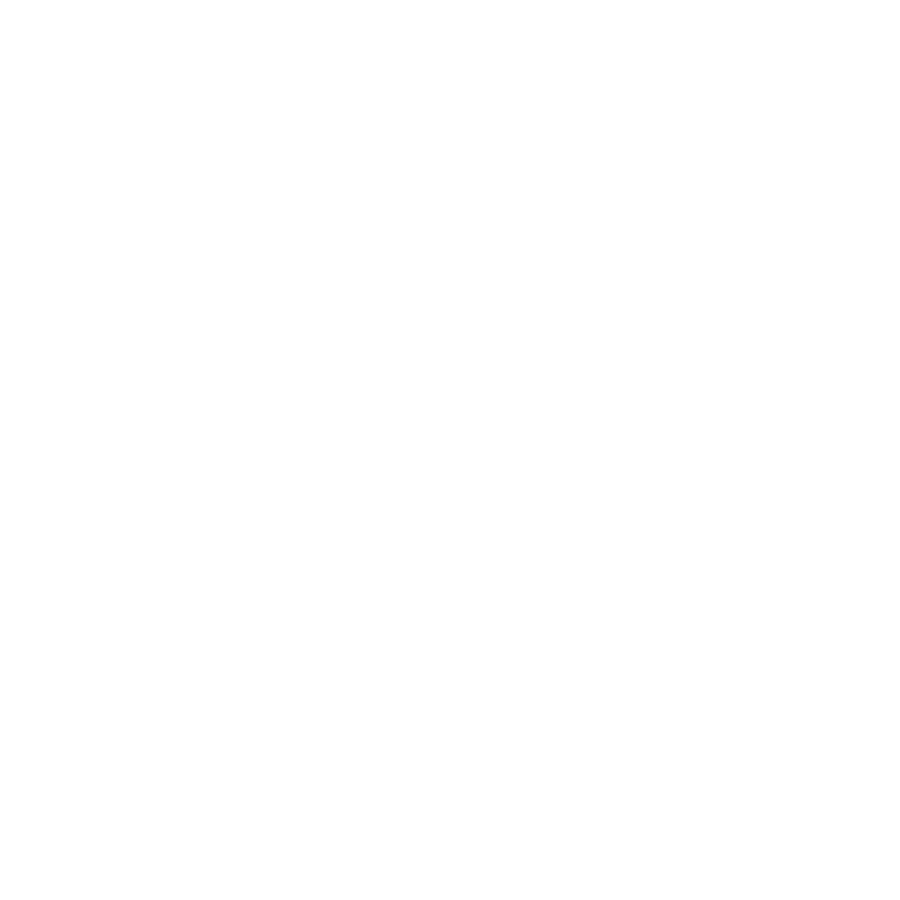
Ольга Балла
Роман Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание», вышедший под самый конец минувшего года, уже не один критик, успевший с тех пор хоть что-то о нем сказать, отнес к «постапокалиптическому» тексту русской литературы, сравнив его, например, с «Островом Сахалин» Эдуарда Веркина. У Горалик описывается, напомню, состояние мира, преимущественно Израиля, после катастрофы. В числе ее последствий оказалось и обретение животными речи, а с нею, неминуемо, — и сознания, и собственного взгляда на дела человеческие, который, понятно, с человеческим взглядом может совершенно не совпадать.
М.: АСТ, 2019.
Мне же кажется, что главное в романе Горалик — совсем не посткатастрофичность (она — всего лишь условие постановки вопросов принципиально более важных), а проблема иноустроенного сознания (включение которого во взаимодействие с человеком и ставит под вопрос в конечном счете всю сложившуюся систему этических принципов). Поэтому его хочется поставить в один ряд с другим романом, который в этом контексте, кажется, никто еще не назвал, — с «Днями Савелия» Григория Служителя, с автобиографией мыслящего кота. Этот кот — кот-философ, наблюдающий человеческую жизнь извне, в ритмику и пластику его сознания Служитель вжился не хуже, чем Горалик, заговорившая в новом своем романе множеством до пугающего убедительных голосов самых разных существ от верблюдов до ящериц.
М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018.
Совершенно различные едва ли не во всех мыслимых отношениях, занятые до противоположности разными, казалось бы, вопросами (Горалик — о возможности жизни в условиях, когда прежняя жизнь рухнула; Служитель — скорее, о тихом, терпеливом, внимательном наблюдении неизменного), два этих текста, по-моему, неспроста появились одновременно. Они наводят на мысль о своем родстве — а может быть, даже и об общих своих источниках, по крайней мере — формирующих импульсах, — не только потому, что оба они — романы вживания в чужое сознание, но и потому, что нежданно оказались об одном: о границах человеческого, о его проблематизации. О необходимости (по крайней мере, о возможностях) выхода за эти пределы. (Кот Савелий выходит за положенные нам пределы даже дважды: не только в том смысле, что он смотрит на людей извне, но и в том, что — как узнает читатель, добравшись до конца романа, — повествование его ведется из посмертия. И взгляд его, скорее, ностальгический — и, как свойственно ностальгическим взглядам, — принимающий и прощающий.)
Источники же обоих текстов, предположу, вот каковы: очень похоже на то, что человеческое уже утомило само себя. Оно уперлось в собственные тупики, ищет иных возможностей — существования ли, взгляда ли на себя (возможностей хотя бы и травмирующих, как в случае той линии, что намечена романом Горалик).
Источники же обоих текстов, предположу, вот каковы: очень похоже на то, что человеческое уже утомило само себя. Оно уперлось в собственные тупики, ищет иных возможностей — существования ли, взгляда ли на себя (возможностей хотя бы и травмирующих, как в случае той линии, что намечена романом Горалик).
По крайней мере, человек в его ныне действующем виде явно чувствует свою недостаточность.
Да, в отношении человеческой ограниченности нам представлены тут, пожалуй, две противоположных позиции. Савелий сам по себе и не мыслит проблематизировать человека, ломать его границы. Он даже не растягивает этих границ — он их мягко огибает, обходит по периметру, близко-близко. Он склонен скорее оправдывать человека и уж вовсе не расположен его судить (даже того маньяка, который едва не забил его до смерти, оставив без одного глаза и части хвоста. Мудрый Савелий не гневается и тут: он больше недоумевает). Заговорившие — и стремительно обретающие сознание — звери Горалик, причем совершенно невольно, только и делают, что проблематизируют своего, так сказать, староговорящего собрата, вынуждают его усомниться во всем, освоенном до сих пор, пересмотреть и растянуть собственные пределы.
Но происходит, по существу, одно и то же: человек обращается к звериному за новыми ресурсами себя — тем более настоящими, чем труднее они поддаются освоению и даже просто пониманию.
Но происходит, по существу, одно и то же: человек обращается к звериному за новыми ресурсами себя — тем более настоящими, чем труднее они поддаются освоению и даже просто пониманию.
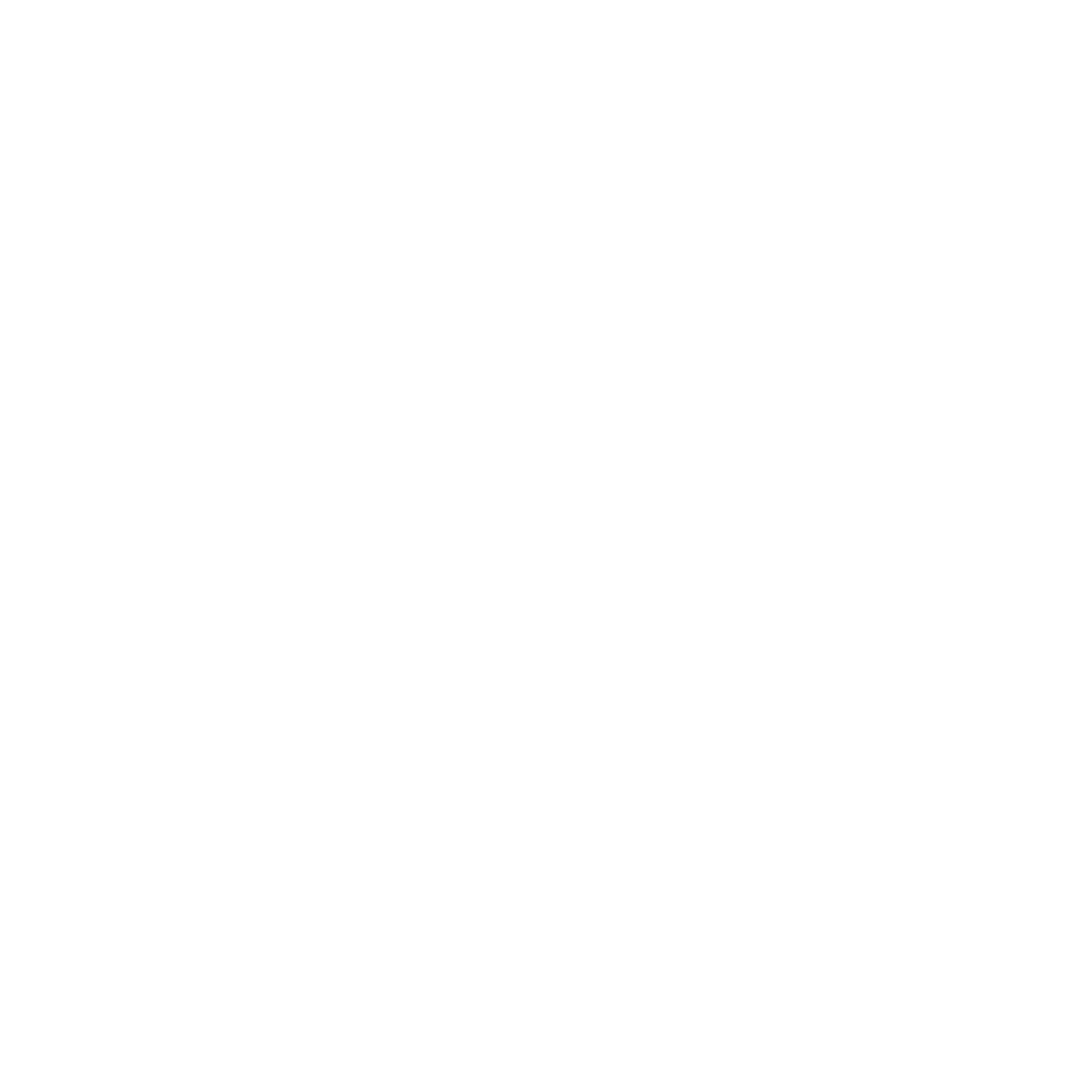
Андрей Пермяков
Лет одиннадцать тому назад, еще в Перми, звонит мне Юрий Беликов, уже тогда давно и по делу известный поэт. После начальных приветствий спрашивает:
— Слушай, Поспеловой-то Алле это зачем?
— В смысле? Что «зачем»?
— Ну, «Сибирский тракт» ваш, тусовки эти. Видно же: она — состоявшийся автор, природный.
За новосозданное Товарищество поэтов «Сибирский тракт» и даже за тусовки мне было обидно, а за Аллу — радостно. Не знаю, как теперь, но в те времена Беликов словом «природный» поэтов хвалил. И слово это означало не «идущий от простоты» (или сложности, сие дело десятое), но, скорее, «способный охватить природу мира во всем ее разнообразии».
— Слушай, Поспеловой-то Алле это зачем?
— В смысле? Что «зачем»?
— Ну, «Сибирский тракт» ваш, тусовки эти. Видно же: она — состоявшийся автор, природный.
За новосозданное Товарищество поэтов «Сибирский тракт» и даже за тусовки мне было обидно, а за Аллу — радостно. Не знаю, как теперь, но в те времена Беликов словом «природный» поэтов хвалил. И слово это означало не «идущий от простоты» (или сложности, сие дело десятое), но, скорее, «способный охватить природу мира во всем ее разнообразии».
Издательство СТиХИ, МО, Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт», 2018.
Такое свойство стихам Аллы было свойственно всегда. А теперь, с выходом книги «Цветы и песни» убедиться в этом стало совсем легко. Хотя легкость эта может быть обманчивой. Причем обманчивой еще на уровне первого знакомства. Скажем, как сочетаются пассеистичное название сборника и его оформление, состоящее из репродукций месоамериканских фресок?
Отлично сочетаются. Да, многие представляют ацтекскую цивилизацию в виде непрерывных битв, милых кровавых ритуалов и уродливых богов-демонов. Наверное, так оно и было, но существовали в рамках этой цивилизации особые люди: тламатины. То есть «те, кто знают вещи», «те, кто понимают небо и обитель мертвых». Они были мудрецами, архитекторами, сочинителями, живописцами… Словом — поэтами. Творцами в полном смысле этого слова. Именно тламатины выбирали путь «цветка и песни». Или путь выбирал их. Этот путь позволял по завершении земной жизни избежать попадания в Миктлан, представлявший собою не то чтоб совсем ад, но крайне унылое место, где вся надежда — на перерождение обратно, в юдоль земную. А в более высокие сферы, «туда, где обитает Солнце», попадали убитые на войне, принесенные в жертву, умершие в родах и вот — тламатины. Их путь, ведущий в небо, назывался именно путем «цветка и песни». Только об этом жалели мудрые, оставляющие этот мир. Сильнее жалели, нежели о самой земле:
Отлично сочетаются. Да, многие представляют ацтекскую цивилизацию в виде непрерывных битв, милых кровавых ритуалов и уродливых богов-демонов. Наверное, так оно и было, но существовали в рамках этой цивилизации особые люди: тламатины. То есть «те, кто знают вещи», «те, кто понимают небо и обитель мертвых». Они были мудрецами, архитекторами, сочинителями, живописцами… Словом — поэтами. Творцами в полном смысле этого слова. Именно тламатины выбирали путь «цветка и песни». Или путь выбирал их. Этот путь позволял по завершении земной жизни избежать попадания в Миктлан, представлявший собою не то чтоб совсем ад, но крайне унылое место, где вся надежда — на перерождение обратно, в юдоль земную. А в более высокие сферы, «туда, где обитает Солнце», попадали убитые на войне, принесенные в жертву, умершие в родах и вот — тламатины. Их путь, ведущий в небо, назывался именно путем «цветка и песни». Только об этом жалели мудрые, оставляющие этот мир. Сильнее жалели, нежели о самой земле:
…Это так: мы действительно уходим отсюда,
Оставляем цветы, и песни, и землю…
Оставляем цветы, и песни, и землю…
За исключением оформления и названия, никаких прямых или явно считываемых косвенных отсылок к обитателям Теночтитлана в книге Аллы Поспеловой нет. Скорее, присутствуют пересечения в области духа. То есть не озвученная впрямую, но отчетливая заявка на понимание миров в полном их объеме и в частностях тоже. При этом автор, будучи уверенной в истинности своего зрения, окружающим его не навязывает. Разговаривает не с потенциальными читателями, а с невидимым собеседником, обитающим то ли в собственной душе, то ли где-то далеко-далеко. Тламатин не должен тратить время на убеждение окружающих. Захотят — поймут. В этом нет высокомерия, в этом есть желание общаться с равным себе. И общаться на тонких уровнях, на грани вербального. Не телепатически, конечно, но языком горним.
Под «суггестивной поэзией» часто и напрасно понимают стихи ни о чем. Таких в «Цветах и песнях» нет. Есть (и даже преобладают) стихотворения, построенные на прихотливых ассоциативных цепочках. Они не похожи на бывшие некогда новаторскими, а ныне ставшие традиционными до уныния «потоки сознания». Хотя в определенном смысле эти стихи — поток. Но что поделать, коли сознание у автора вполне ясное? Позволяющее отчетливо сопрягать совершенно разнородные объекты. Как в этом фрагменте из небольшого цикла «Бараки»:
Под «суггестивной поэзией» часто и напрасно понимают стихи ни о чем. Таких в «Цветах и песнях» нет. Есть (и даже преобладают) стихотворения, построенные на прихотливых ассоциативных цепочках. Они не похожи на бывшие некогда новаторскими, а ныне ставшие традиционными до уныния «потоки сознания». Хотя в определенном смысле эти стихи — поток. Но что поделать, коли сознание у автора вполне ясное? Позволяющее отчетливо сопрягать совершенно разнородные объекты. Как в этом фрагменте из небольшого цикла «Бараки»:
V
В деревне у бабушки пoдпол,
там держат картошку,
и ближе к весне
почти вся она вмиг прорастает
такими белесыми пальцами хиленьких веток,
которые рвутся к теплу и невидному свету…
И их обреченность всегда меня в детстве пугала…
В бараках так часто
зачем-то рождаются дети.
В деревне у бабушки пoдпол,
там держат картошку,
и ближе к весне
почти вся она вмиг прорастает
такими белесыми пальцами хиленьких веток,
которые рвутся к теплу и невидному свету…
И их обреченность всегда меня в детстве пугала…
В бараках так часто
зачем-то рождаются дети.
Заметим: текст этот из второй части книги, из «Песен». Туда включены стихотворения условно «внешние». Но и тут мы видим скорее наблюдение без прямого вмешательства, фиксацию обстоятельств. Черствости и равнодушия в этом нет. Есть принятие чужой позиции без участия в оной и без особого уважения. Захотят понять — поймут, захотят помощи — попросят, окажем. Но благодарность хрупкому мирозданию не допускает разрушительного вмешательства в него. В этом есть осознание границ мира и чужой воли, сколь бы странной эта воля ни казалась.
Как ни удивительно, но в первой части, в «Цветах», наполненной, казалось бы, стихами о внутреннем душевном устройстве, гораздо больше прямых обращений. Правда, обращения эти весьма непросты:
Как ни удивительно, но в первой части, в «Цветах», наполненной, казалось бы, стихами о внутреннем душевном устройстве, гораздо больше прямых обращений. Правда, обращения эти весьма непросты:
* * *
Ты не гений, мой мальчик,
Здесь гении дохнут, как мухи,
Ты не ангел, мой милый,
Иначе зачем тебе крылья?
Я тебе не жена, потому что еще не старуха,
Я тебе не нужна — ты меня бережешь без насилья.
Мы не будем с тобой умирать в один день по закону,
Потому что мне лень,
А тебе с моей тенью не слиться,
Я тебя прогоню, как шутов прогоняют от трона,
Я воткну тебя в нервы,
Как розы втыкают в петлицы
Ты не гений, мой мальчик,
Здесь гении дохнут, как мухи,
Ты не ангел, мой милый,
Иначе зачем тебе крылья?
Я тебе не жена, потому что еще не старуха,
Я тебе не нужна — ты меня бережешь без насилья.
Мы не будем с тобой умирать в один день по закону,
Потому что мне лень,
А тебе с моей тенью не слиться,
Я тебя прогоню, как шутов прогоняют от трона,
Я воткну тебя в нервы,
Как розы втыкают в петлицы
Формально — ужасно обидное для мужской половины человечества стихотворение. А если вчитаться и вдуматься, так наоборот: поэт не то чтобы коварно признает адресата равным, но сугубо искренне обещает самому себе не ломать человеку жизнь и уважать пространство другого. И да: снова предлагает услышать свой внутренний голос. Это же в глубине своей явно не стихи, предназначенные утешить или унизить кого-то. Тут за броней высказанного внешне — открытость невероятная. Нежность улитки в легком, но не слишком ломком панцире.
Примерно так. Говорить о вечном более подробно в рамках рубрики не позволит место, да и ни к чему разбавлять примерами и описанием нюансов уже сказанное. А вот моменты бренные немного тревожат. С момента выхода предыдущей книги Аллы Поспеловой — изданного в Екатеринбурге сборника «Крест» — прошло 20 лет. Не хотелось бы следующей книги ждать еще столько же. Но загадывать не станем.
Примерно так. Говорить о вечном более подробно в рамках рубрики не позволит место, да и ни к чему разбавлять примерами и описанием нюансов уже сказанное. А вот моменты бренные немного тревожат. С момента выхода предыдущей книги Аллы Поспеловой — изданного в Екатеринбурге сборника «Крест» — прошло 20 лет. Не хотелось бы следующей книги ждать еще столько же. Но загадывать не станем.
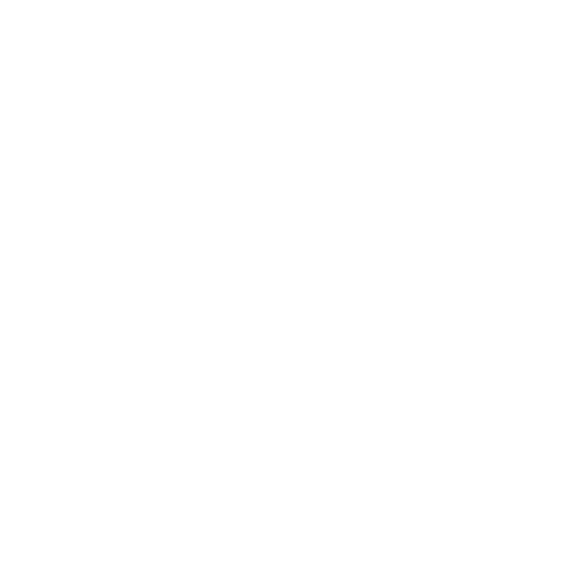
Станислав Секретов
Что хотите со мной делайте — люблю я прозу Романа Сенчина. Искренне люблю. Чувствует он, о чем душа болит у простого человека, о чем он горюет и тоскует. И персонажи получаются живыми, а не картонными, как у некоторых. Ну да, все они не слишком счастливы и не шибко успешны. Так Сенчин сам говорит: ищу, мол, ищу по Руси-матушке настоящего героя — сильного, уверенного в себе поборника честности да справедливости — и не нахожу. Перевелись в стране богатыри. Так и хочется уехать в глухую сибирскую деревню, где ни интернета, ни телефона, ни телевизора, ни радио, и, сидя на завалинке, читать книжки, повторяя приснопамятное «Да, были люди в наше время…» Читать и критиковать.
Сенчин-критик тоже весьма хорош. Только и на критическом поле он богатырей не видит. Так и пишет, что литературные критики у нас почти перевелись. Не хотят писать о нужном и важном. Вот есть, к примеру, замечательная Анна Матвеева, но критики не очень-то любят ее прозу замечать. Позвольте, батенька, как это не любят замечать? Один я за последние пять лет написал пять рецензий на книги Матвеевой: две вышли в «Знамени», две — в «Homo Legens», одна — в «НГ-ExLibris». А еще за тот же период о ее книгах писали Лиза Биргер, Полина Бояркина, Анастасия Бутина, Елена Васильева, Александр Етоев, Валентина Живаева, Сергей Казначеев, Елена Кузнецова, Наталия Курчатова, Андрей Мирошкин, Сергей Морозов, Маргарита Пимченко, Ольга Погодина-Кузмина, Владислав Толстов, Аглая Топорова, Константин Трунин, Галина Юзефович и, конечно, Роман Сенчин. Мало? Критики нет?
Поневоле вспоминаешь известный случай с Фаиной Раневской. Когда однажды к ней подбежали дети и стали кричать: «Муля! Муля!», не привыкшая лезть за словом в карман актриса заявила: «Пионеры, идите в жопу!», на что дети ответили: «Фаина Георгиевна, нет такого слова!» Раневская удивилась: «Надо же, жопа есть, а слова нет!» О том, что сегодня у нас практически не осталось ни критики, ни критиков, особенно молодых, в последние годы говорит не только Сенчин.
Но простите: продолжает выходить журнал критики и литературоведения «Вопросы литературы», критические разделы есть практически во всех толстых журналах, на литературной критике во многом держатся интернет-порталы «Горький», «Текстура», «Прочтение» и другие.
Поневоле вспоминаешь известный случай с Фаиной Раневской. Когда однажды к ней подбежали дети и стали кричать: «Муля! Муля!», не привыкшая лезть за словом в карман актриса заявила: «Пионеры, идите в жопу!», на что дети ответили: «Фаина Георгиевна, нет такого слова!» Раневская удивилась: «Надо же, жопа есть, а слова нет!» О том, что сегодня у нас практически не осталось ни критики, ни критиков, особенно молодых, в последние годы говорит не только Сенчин.
Но простите: продолжает выходить журнал критики и литературоведения «Вопросы литературы», критические разделы есть практически во всех толстых журналах, на литературной критике во многом держатся интернет-порталы «Горький», «Текстура», «Прочтение» и другие.
Критика есть, а критиков нет?
Хорошо, большинство писателей хотят не просто отзывов об их книгах. Роман Сенчин отмечает, что «молодые люди, пишущие о литературе, ограничиваются рецензиями, а не отваживаются на большие, многогранные статьи». С этим утверждением спорить сложнее. Но хочется спросить, почему такое происходит? Почему молодежь чаще становится, по формулировке Сенчина, не критиками, а «литературными журналистами»?
Представьте три картины
1
1989 год
Молодой критик целый месяц пишет хорошую статью, которую затем миллионным тиражом печатает толстый журнал. Имя критика узнают. Его статью активно обсуждают, хвалят, ругают. С ним спорят. На полученный гонорар критик живет последующий месяц, а то и дольше. С горячностью и воодушевлением он пишет новую статью.
2
2004 год
Молодой критик целый месяц пишет хорошую статью, которую затем скромным тиражом печатает толстый журнал. Критик становится лауреатом (попадает в лонг- или шорт-лист) премии «Дебют» в номинации «Эссеистика», имя критика замечают. Полученного в редакции толстого журнала гонорара критику хватает на покупку нескольких новых книжек. Он пишет новую статью.
3
2019 год
Молодой критик целый месяц пишет хорошую статью, которую затем мизерным тиражом печатает толстый журнал. Статью не обсуждают. Имя критика не замечают. Премий для критиков не существует. Гонорар нулевой или чуть больше нуля.
Там же.
Р. Сенчин. Четвертый кот и другие истории. Рецензия на книгу Анны Матвеевой «Спрятанные реки» // Горький. 2018. 1 ноября.
Жопа есть, а слова нет.
36 стратагем. Сокровенная книга по военной тактике / Пер. И. Н. Мизинина. М.: Центрполиграф, 2016. С. 55.
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике