май 2019
Легкая кавалерия. Выпуск №5
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
Говорим дальше — и снова о разных интересных штуках: о трех «этажах» литературы и загадке Гузели Яхиной; об evergreen content — подкастах и правиле «трех "и"»; об убийственной наглядности форумов молодых писателей и они-же-детях от литературы; о человеке настроения Наринской и ее стронг опиньенз; о разнице между ловлей блох и порождением идей в критике; о недостатке дизайн-мышления в «Игре престолов» и вообще; а также о многом другом…

Алексей Саломатин
Вряд ли кто станет спорить с тем, что в начале третьего тысячелетия ощутить в себе по молодости лет склонность к писательству означало вытянуть счастливый билет.
Если иные времена располагали к тому, чтобы податься в бизнесмены или покорители целины, то в минувшие двадцать лет все говорило за то, чтобы избрать поприщем литературу — ни до, ни, по всей видимости, после о таком количестве перспектив и преференций для молодых литераторов говорить не приходилось и не придется. Начинающих авторов, едва из колыбели, ожидали гостеприимные семинары, перед ними распахивали развороты статусные «толстяки», а премиальные лифты стремительно возносили к заоблачным высотам. Примечательно, что ставку на молодежь делали как представители условно консервативного лагеря, ратующие за преемственность традиции, так и травмоцентричные нигилисты, при слове «преемственность» хватающиеся за дискурс.
Если иные времена располагали к тому, чтобы податься в бизнесмены или покорители целины, то в минувшие двадцать лет все говорило за то, чтобы избрать поприщем литературу — ни до, ни, по всей видимости, после о таком количестве перспектив и преференций для молодых литераторов говорить не приходилось и не придется. Начинающих авторов, едва из колыбели, ожидали гостеприимные семинары, перед ними распахивали развороты статусные «толстяки», а премиальные лифты стремительно возносили к заоблачным высотам. Примечательно, что ставку на молодежь делали как представители условно консервативного лагеря, ратующие за преемственность традиции, так и травмоцентричные нигилисты, при слове «преемственность» хватающиеся за дискурс.
Причины этого явления — от закономерного спроса на свежие имена, спровоцированного истощением к началу нулевых потока возвращенных и извлеченных из подполья текстов, до банальных потемкинских пантеонов — в данном случае не столь важны, а вот прикинуть некие предварительные итоги уже можно. Благо двадцать без малого лет (если вести отсчет от первого «Дебюта» и первых «Липок») — срок вполне репрезентативный.
За эти годы через различные ориентированные на молодежь проекты прошло несколько тысяч авторов, из которых сотни получили если не премии, то изданные книги, стипендии и стартовый символический капитал. Условия для молодых талантов создавались поистине тепличные — пиши не хочу! — вот только по поводу большинства стипендиатов и лауреатов былых лет хочется поинтересоваться даже не где, а кто все эти люди.
Разумеется, крупное литературное дарование — вовсе нетепличное, не поддающееся искусственной селекции, растение, но ожидать улучшения средних показателей культурной грамотности и технического мастерства по генерации при таких вложениях было бы вполне оправданно. Однако литература 35- держит последовательный курс на упрощение, что с убийственной наглядностью демонстрируют те же форумы молодых писателей.
Если еще лет пять назад уровень семинара «Вопросов литературы» был сопоставим с уровнем серьезной научной конференции, то сейчас обнаружить среди работ семинаристов аналитическую статью — уже несказанная удача. О том же, что происходит на семинарах поэзии, даже говорить не хочется.
И дело не в пресловутом долгом созревании. Во всяком случае, не только.
Слишком хорошо, как выясняется, это тоже плохо. Подобно тому, как в иных странах выгоднее сидеть на пособии по безработице, чем работать, в нашем королевстве в какой-то момент стало выгоднее не решать нетривиальные творческие задачи и выходить на новые уровни, а оставаться вечно начинающим «надежды поданы!». Свободно конвертируемые кредиты доверия, которые предстоит возвращать в туманной и несбыточной зрелости, раздаются охотно. Привыкшие к пониженным нормативам и снисходительному отношению стареющие они-же-дети от литературы старательно соответствуют ожиданиям (возможно, сами того не осознавая): в меру претенциозно, в меру наивно и без малейшего намека на взрослость, чреватую выходом из привилегированной группы.
Иногда они даже примеряют взрослые роли культуртрегеров или кураторов, только все это по-прежнему отдает лишь игрой в настоящую жизнь — что-то вроде детской железной дороги: все мелочи скрупулезно воспроизведены, можно даже прокатиться, только вот уехать куда-нибудь выйдет едва ли.
Молодость, к сожалению, часто воспринимается как синоним профессиональной недозрелости, вызывающей, почему-то, умиление.
Зрелого же не по годам автора, скорее всего, просто не идентифицируют как молодого. Со всеми вытекающими.
Ему, впрочем, и горя мало. Вместо того, чтобы барахтаться в лягушатнике, он уже давно, не требуя поблажек, на равных состязается с чемпионами.
За эти годы через различные ориентированные на молодежь проекты прошло несколько тысяч авторов, из которых сотни получили если не премии, то изданные книги, стипендии и стартовый символический капитал. Условия для молодых талантов создавались поистине тепличные — пиши не хочу! — вот только по поводу большинства стипендиатов и лауреатов былых лет хочется поинтересоваться даже не где, а кто все эти люди.
Разумеется, крупное литературное дарование — вовсе нетепличное, не поддающееся искусственной селекции, растение, но ожидать улучшения средних показателей культурной грамотности и технического мастерства по генерации при таких вложениях было бы вполне оправданно. Однако литература 35- держит последовательный курс на упрощение, что с убийственной наглядностью демонстрируют те же форумы молодых писателей.
Если еще лет пять назад уровень семинара «Вопросов литературы» был сопоставим с уровнем серьезной научной конференции, то сейчас обнаружить среди работ семинаристов аналитическую статью — уже несказанная удача. О том же, что происходит на семинарах поэзии, даже говорить не хочется.
И дело не в пресловутом долгом созревании. Во всяком случае, не только.
Слишком хорошо, как выясняется, это тоже плохо. Подобно тому, как в иных странах выгоднее сидеть на пособии по безработице, чем работать, в нашем королевстве в какой-то момент стало выгоднее не решать нетривиальные творческие задачи и выходить на новые уровни, а оставаться вечно начинающим «надежды поданы!». Свободно конвертируемые кредиты доверия, которые предстоит возвращать в туманной и несбыточной зрелости, раздаются охотно. Привыкшие к пониженным нормативам и снисходительному отношению стареющие они-же-дети от литературы старательно соответствуют ожиданиям (возможно, сами того не осознавая): в меру претенциозно, в меру наивно и без малейшего намека на взрослость, чреватую выходом из привилегированной группы.
Иногда они даже примеряют взрослые роли культуртрегеров или кураторов, только все это по-прежнему отдает лишь игрой в настоящую жизнь — что-то вроде детской железной дороги: все мелочи скрупулезно воспроизведены, можно даже прокатиться, только вот уехать куда-нибудь выйдет едва ли.
Молодость, к сожалению, часто воспринимается как синоним профессиональной недозрелости, вызывающей, почему-то, умиление.
Зрелого же не по годам автора, скорее всего, просто не идентифицируют как молодого. Со всеми вытекающими.
Ему, впрочем, и горя мало. Вместо того, чтобы барахтаться в лягушатнике, он уже давно, не требуя поблажек, на равных состязается с чемпионами.
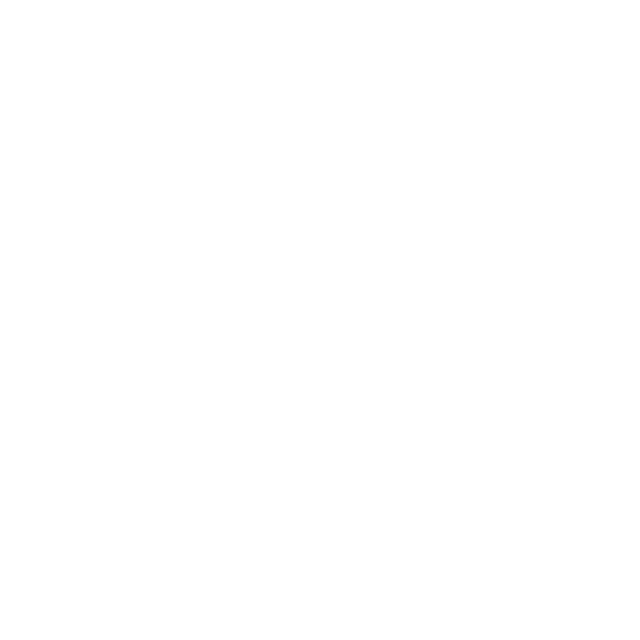
Максим Алпатов
Два года назад в журнале «НЛО» вышла статья Евгении Вежлян «Современная поэзия и "проблема" ее нечтения». Название лукавит — работа посвящена как раз-таки чтению: причинам, по которым интересуются поэзией, а также особенностям «читательских биографий» людей из разных поколений, самому процессу восприятия. Слово «проблема» оказалось в кавычках, ведь «в терминах отклонения от нормы, беспокойства, кризиса» о чтении поэзии говорит, в основном, литературное сообщество. Но чей бы это ни был «кризис», наконец-то найден способ его преодолеть.
НЛО. 2017. №1.
С тем, вокруг чего бились поэты, филологи и социологи, играючи разобрались журналисты. В апреле прошлого года портал «Афиша Daily» запустил рубрику, в которой поэты сами рассказывают, «как, где и зачем они пишут стихи». Все гениальное — просто: если элемент познания в процессе чтения — последнее препятствие на пути к культурному экстазу, то его и надо устранять. «Процесс создания стихов часто кажется чем-то средним между магией и случайностью» — многое понятно уже из этого вреза к публикации. Читатель — всего лишь ребенок, заблудившийся в музее словесного иллюзионизма. Но добрые люди отведут, куда нужно, и успокоят — за вас уже все прочитали, бояться нечего.
В пяти выпусках рубрики поучаствовал двадцать один поэт. Все — очень разные, но благодаря самодовольному формату высказывания их интонации сливаются в одну: «Это стихотворение драматургически, структурно и геометрически там центральное: оно самое большое и наполненное смыслом» (Виктор Перельман); «В этом цикле есть тексты более сильные и более слабые, но я решил, что даже те, которые не дотягивают до какого-то уровня, пусть остаются там» (Александр Самойлов); «Я счастлив, когда пишу, и не враг себе, чтобы этого счастья избегать. Не наказываю себя запретом. <…> Не публиковался бы, если бы не стремился к маме как к примеру для подражания, а она щедрый человек» (Вадик Королев).
В пяти выпусках рубрики поучаствовал двадцать один поэт. Все — очень разные, но благодаря самодовольному формату высказывания их интонации сливаются в одну: «Это стихотворение драматургически, структурно и геометрически там центральное: оно самое большое и наполненное смыслом» (Виктор Перельман); «В этом цикле есть тексты более сильные и более слабые, но я решил, что даже те, которые не дотягивают до какого-то уровня, пусть остаются там» (Александр Самойлов); «Я счастлив, когда пишу, и не враг себе, чтобы этого счастья избегать. Не наказываю себя запретом. <…> Не публиковался бы, если бы не стремился к маме как к примеру для подражания, а она щедрый человек» (Вадик Королев).
То есть читателя берегут не только от необходимости понимать текст, но и от потребности самостоятельно судить о его качестве.
Редакция «Афиша Daily» явно обращается к тем, кому процесс написания стихов кажется сакральным — отсюда загадочный шепот про «магию и случайность». В авторских комментариях не оказалось ничего по-настоящему болезненного и сокровенного, что не было бы видно из текста, — но материал подается так, будто без них и жить нельзя. Работа ведется сразу с двумя целевыми группами: одни поймут стихотворение Линор Горалик «Смерть — девочка в платке аляповатом…», другие — ее же пересказ: «Наша смертность завораживает меня как единственный универсальный для всех духовный опыт; понятно, что есть и обычный страх за себя и за близких, и боль от потери тех, кто ушел, — но вот это понимание, что у каждого из нас при любой разнице судеб есть как минимум одно общее переживание, — для меня бесценно».
Рядом с комментариями, объясняющими весь текст разом, особенно эффектно смотрится авторский анализ отдельных метафор и образов: «Я думаю, что моя мать сама превратилась в дерево, — поэтому там в конце просьба "расслоить ее". Недавно я поняла, что тут может быть аналогия с вагиной, но вообще это просто про проникновение в тело, внутри которого уже нет органов и крови, а есть "березовая влага, осиновая смола"» (Оксана Васякина). Процесс создания стихотворения точно не спугнет читателя таинственностью, когда так напоминает сборку мебели: 1) расслоите метафору; 2) приложите аналогию; 3) закрепите при помощи смолы. Инструкция нужна обязательно: вдруг кто-то, не дай бог, соберет что-нибудь свое.
Рассуждения авторов о природе поэзии запутывают еще больше: истину предлагается искать где-то между тезисом Линор Горалик об «универсальном духовном опыте» и суровым приговором Андрея Егорова: «Опыт не нужен для творчества. Скажу больше — вреден. Это костыль для тех, у кого нет воображения» (курсив А. Е. – М. А.). Опубликованные по отдельности, эти реплики, может, и смотрелись бы уместно (как формулы авторского мировоззрения), но в составе дайджеста выглядят так, словно написаны ради максимального разнообразия мнений.
Единственный из опрошенных «Афишей» поэтов, у кого возникли вопросы к формату рубрики — Алексей Цветков: «Я принципиально не комментирую свои стихи, потому что тогда не имеет смысла их писать. <…> Если бы я мог что-то еще сказать об этом, я бы включил это в текст». Правда, немного смущает, что на такую простую мысль потрачено три абзаца, и они размещены под стихотворением — то есть, комментарий все равно состоялся.
Рядом с комментариями, объясняющими весь текст разом, особенно эффектно смотрится авторский анализ отдельных метафор и образов: «Я думаю, что моя мать сама превратилась в дерево, — поэтому там в конце просьба "расслоить ее". Недавно я поняла, что тут может быть аналогия с вагиной, но вообще это просто про проникновение в тело, внутри которого уже нет органов и крови, а есть "березовая влага, осиновая смола"» (Оксана Васякина). Процесс создания стихотворения точно не спугнет читателя таинственностью, когда так напоминает сборку мебели: 1) расслоите метафору; 2) приложите аналогию; 3) закрепите при помощи смолы. Инструкция нужна обязательно: вдруг кто-то, не дай бог, соберет что-нибудь свое.
Рассуждения авторов о природе поэзии запутывают еще больше: истину предлагается искать где-то между тезисом Линор Горалик об «универсальном духовном опыте» и суровым приговором Андрея Егорова: «Опыт не нужен для творчества. Скажу больше — вреден. Это костыль для тех, у кого нет воображения» (курсив А. Е. – М. А.). Опубликованные по отдельности, эти реплики, может, и смотрелись бы уместно (как формулы авторского мировоззрения), но в составе дайджеста выглядят так, словно написаны ради максимального разнообразия мнений.
Единственный из опрошенных «Афишей» поэтов, у кого возникли вопросы к формату рубрики — Алексей Цветков: «Я принципиально не комментирую свои стихи, потому что тогда не имеет смысла их писать. <…> Если бы я мог что-то еще сказать об этом, я бы включил это в текст». Правда, немного смущает, что на такую простую мысль потрачено три абзаца, и они размещены под стихотворением — то есть, комментарий все равно состоялся.
Понятно, почему рубрика получилась именно такой, ведь для журналистов нет никакой поэзии: есть лишь тексты и те, кто их пишет. Подумаешь, разница: брать комментарий у автора по поводу стихотворения или у режиссера по поводу фильма. Так и для обозревателей нет никакой литературы — только книги, которые недавно вышли, существующие сами по себе. По логике масс-медиа любой язык (поэтический, кинематографический и так далее) подчиняется риторике «культуры вообще» и собственной волей не обладает.
Как же поэты согласились в этом участвовать? Тут надо вспомнить о разговоре «в терминах беспокойства и кризиса». Литературное сообщество так сильно озадачено необходимостью спасения поэзии, что не выбирает средства — хотя сомнительные методы просвещения делают его бессмысленным. Читателей воображают детьми, которым надо все разжевать — но в чем ценность переваренной поэзии?
Нет понимания, как популяризировать поэзию — потому что никто не может сформулировать, зачем. Как заметила Ирина Роднянская в ходе круглого стола «Поэзия ХХI века: жизнь без читателя?», для начала неплохо бы уточнить, «что нас в первую очередь беспокоит: то, что многообразная и талантливая поэзия, не находя должного читательского отклика, оказывается в страдательном положении, или то, что читательская аудитория несет урон, лишаясь этого изрядного богатства». Кажется, поэты просто путают личные тревоги и сомнения со «страдательным положением» всей поэзии, травму аудитории «Афиши» видят в том, что она еще не знакома с их стихотворениями, а должный уровень отклика обеспечивают собственными комментариями.
Как-то ушло на задний план, что у читателей могут быть свои тревоги и сомнения по поводу стихов, а вопрос «Как это написано?» — вообще не главный. Познавательная рубрика «Афиши» имитирует диалог с людьми за пределами литературного сообщества, но предмет диалога больше интересен тем, кто внутри. И авторские комментарии о «магии создания текста» фактически говорят о стихах, забывая про поэзию, игнорируя волшебство эмпатии, возможность посмотреть на мир другими глазами и подумать на другом языке, словом, всю магию после создания текста.
Как же поэты согласились в этом участвовать? Тут надо вспомнить о разговоре «в терминах беспокойства и кризиса». Литературное сообщество так сильно озадачено необходимостью спасения поэзии, что не выбирает средства — хотя сомнительные методы просвещения делают его бессмысленным. Читателей воображают детьми, которым надо все разжевать — но в чем ценность переваренной поэзии?
Нет понимания, как популяризировать поэзию — потому что никто не может сформулировать, зачем. Как заметила Ирина Роднянская в ходе круглого стола «Поэзия ХХI века: жизнь без читателя?», для начала неплохо бы уточнить, «что нас в первую очередь беспокоит: то, что многообразная и талантливая поэзия, не находя должного читательского отклика, оказывается в страдательном положении, или то, что читательская аудитория несет урон, лишаясь этого изрядного богатства». Кажется, поэты просто путают личные тревоги и сомнения со «страдательным положением» всей поэзии, травму аудитории «Афиши» видят в том, что она еще не знакома с их стихотворениями, а должный уровень отклика обеспечивают собственными комментариями.
Как-то ушло на задний план, что у читателей могут быть свои тревоги и сомнения по поводу стихов, а вопрос «Как это написано?» — вообще не главный. Познавательная рубрика «Афиши» имитирует диалог с людьми за пределами литературного сообщества, но предмет диалога больше интересен тем, кто внутри. И авторские комментарии о «магии создания текста» фактически говорят о стихах, забывая про поэзию, игнорируя волшебство эмпатии, возможность посмотреть на мир другими глазами и подумать на другом языке, словом, всю магию после создания текста.
Знамя. 2012. №2.
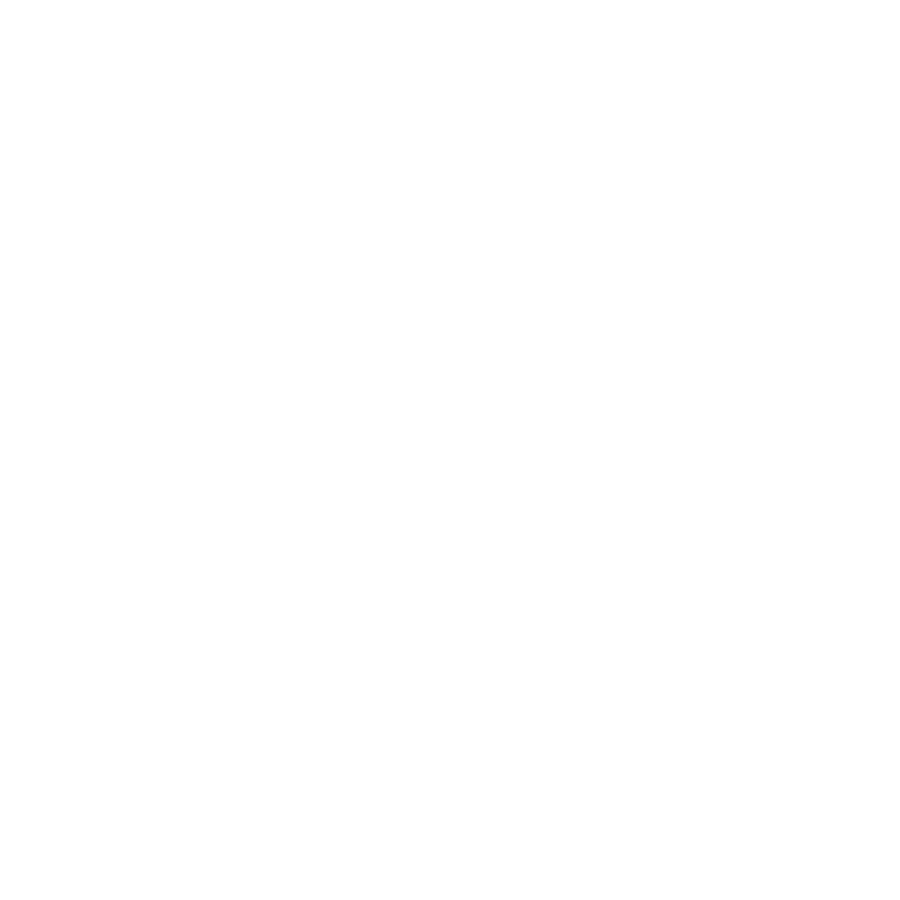
Ольга Балла
Этот небольшой стремительный текст назначаю я вынужденно скомканным черновиком более основательного и развернутого текста, просто чтобы обозначить направления будущих медленных размышлений (выходя тем самым за пределы заведенного уже мною в этой рубрике обыкновения обозначать тенденции литературного процесса по крайней мере в двух именах, — на сей раз имя будет одно, зато сразу крупное).
Похоже, в этом году, практически из безвестности — и совершенно уже сложившимся — явился мощный поэт, которого нам еще предстоит осмыслить, с очень индивидуальным голосом. Богдан Агрис издал у «Русского Гулливера» небольшой сборничек «Дальний полустанок» — результат многолетней одинокой работы (невключенность до сей поры в отечественную литературную жизнь пошла ему, безусловно, на пользу).
Похоже, в этом году, практически из безвестности — и совершенно уже сложившимся — явился мощный поэт, которого нам еще предстоит осмыслить, с очень индивидуальным голосом. Богдан Агрис издал у «Русского Гулливера» небольшой сборничек «Дальний полустанок» — результат многолетней одинокой работы (невключенность до сей поры в отечественную литературную жизнь пошла ему, безусловно, на пользу).
М.: Русский Гулливер, 2019.
Он принадлежит к чрезвычайно редкостной у нас, редкостной, видимо, вообще породе поэтов-натурфилософов, выговаривающих устройство мироздания в целом, ход пронизывающих его процессов и сил. Его поэтическая генеалогия (по меньшей мере, одна из ее линий) восходит через Мандельштама, Заболоцкого, Тютчева к Державину и Ломоносову.
Охватывая взглядом — чуть ли не в каждом тексте — мировое целое на разных его уровнях — «от морщинок руды до колючек звезды», — Агрис обладает подробнейшим зрением, позволяющим разглядеть структуры вещества вплоть до микроскопических. Собственно, здесь что ни текст — то метафизический трактат, притом остро-личностно пережитый. И это столько же (или даже в меньшей степени) взгляд метафизика и астронома, сколько минералога, зоолога, ботаника, — многоликого естествоиспытателя. Естествоиспытанию которого не противоречит, но, напротив, составляет его часть и питающий источник, — взволнованная мифологичность.
«Лирического героя в этих текстах нет», — пишет в одном из небольших предисловий к книжечке Кирилл Анкудинов. С этим согласиться никак невозможно: тексты Агриса ими буквально перенаселены.
Во внимании его лирического героя — время, пространство, воды и почвы, времена суток и года, звери и небесные тела, птицы и минералы, растения и созвездия. Обо всех этих предметах для Агриса возможна и необходима речь исключительно личностная, страстная (кстати, сразу и адресованная, диалогическая); речь, которая раскаляет и сжигает. «Еще наговоримся добела», «еще наговоримся дочерна», обещает поэт в первом же стихотворении книги — о чем же? — «О сотах времени, об озере вне веса, / О полом тростнике в созвездии Орла <…> О том, что время нам насобирало в соты, / О том, как озеро текло в свои высоты». Оно все живое, дышит, действует, чувствует, — оно все — и в целом, и в каждой своей точке — субъективно и пристрастно. Здесь возможно «виноватить» миры — «соседние миры в обводе стога» способны быть субъектами этики; осень «вздыхает уклончиво»; вещи «сгибающиеся, сонные и животные»; стена, не хуже растения, способна «вянуть» и «распускаться». В этом мире нет ничего отвлеченного, чисто-умозрительного — все чувственно и осязаемо. Речь держится «жилисто и плотно»; время «возводится», «как дышащий <…> чертеж». Раз все живо — то все и смертно. Всему может быть больно. Пожалуй, все оно даже в той или иной степени сакрально — и есть все основания обратиться к встречной птице: «Помилуй мя, о горлица сквозная».
Охватывая взглядом — чуть ли не в каждом тексте — мировое целое на разных его уровнях — «от морщинок руды до колючек звезды», — Агрис обладает подробнейшим зрением, позволяющим разглядеть структуры вещества вплоть до микроскопических. Собственно, здесь что ни текст — то метафизический трактат, притом остро-личностно пережитый. И это столько же (или даже в меньшей степени) взгляд метафизика и астронома, сколько минералога, зоолога, ботаника, — многоликого естествоиспытателя. Естествоиспытанию которого не противоречит, но, напротив, составляет его часть и питающий источник, — взволнованная мифологичность.
«Лирического героя в этих текстах нет», — пишет в одном из небольших предисловий к книжечке Кирилл Анкудинов. С этим согласиться никак невозможно: тексты Агриса ими буквально перенаселены.
Во внимании его лирического героя — время, пространство, воды и почвы, времена суток и года, звери и небесные тела, птицы и минералы, растения и созвездия. Обо всех этих предметах для Агриса возможна и необходима речь исключительно личностная, страстная (кстати, сразу и адресованная, диалогическая); речь, которая раскаляет и сжигает. «Еще наговоримся добела», «еще наговоримся дочерна», обещает поэт в первом же стихотворении книги — о чем же? — «О сотах времени, об озере вне веса, / О полом тростнике в созвездии Орла <…> О том, что время нам насобирало в соты, / О том, как озеро текло в свои высоты». Оно все живое, дышит, действует, чувствует, — оно все — и в целом, и в каждой своей точке — субъективно и пристрастно. Здесь возможно «виноватить» миры — «соседние миры в обводе стога» способны быть субъектами этики; осень «вздыхает уклончиво»; вещи «сгибающиеся, сонные и животные»; стена, не хуже растения, способна «вянуть» и «распускаться». В этом мире нет ничего отвлеченного, чисто-умозрительного — все чувственно и осязаемо. Речь держится «жилисто и плотно»; время «возводится», «как дышащий <…> чертеж». Раз все живо — то все и смертно. Всему может быть больно. Пожалуй, все оно даже в той или иной степени сакрально — и есть все основания обратиться к встречной птице: «Помилуй мя, о горлица сквозная».
Этот мир еще творится. Он не закончен. Он творится и каждым выговариваемым здесь движением: как двинешься — так и будет. Возводится, как дышащий чертеж.
Более того, со всем перечисленным и не перечисленным человек образует одно большое, сложночувствующее целое, все части которого устроены некоторым очень родственным друг другу образом — и не только в смысле подробного человекоподобия, скажем, деревьев: «Сонливых тополей сточились каблуки, / и где им выйти вереску навстречу…» Нет, шире и сложнее того: все, что в этом целом происходит, становится телесным событием человека, отражается в нем («…когда пройдет волна по зеркалу руки»).
Кроме того — кроме этого человека-вообще, человека-как-вида, соучаствующего в мировом целом — несомненно, присутствует здесь и своевольный, узнаваемый, даже настойчивый голос наблюдателя-созерцателя, его «я» с собственной — с первых же страниц заявляемой — позицией: «Вам нужен лай собачий наизнанку, / Мне — долгий дом у млечного откоса / С дроздами и свечением рябины», с рефлексией: «Мне надо бы пока остановиться <…> Я затаюсь у вянущей стены…» (Не говоря уж о том, что есть и не менее настойчиво возникающее «мы», к которому говорящий изнутри этих стихов себя причисляет: «Мы копим имена в укрывищах лесных / И если держим речь — то жилисто и плотно».) Допустим, это «я» не биографическое (при том, что явно обладает темпераментом, норовом, избирательностью, да и вообще сложным душевным устройством: «А вон — не я ли: ломок и в раздвое?» — смотрится повествователь в зеркало мироздания). Но у него несомненно есть — и выговаривается в этих текстах — то, что хочется начерно назвать макробиографией: жизнь, измеряющая себя тысячелетиями и космическими масштабами.
Кроме того — кроме этого человека-вообще, человека-как-вида, соучаствующего в мировом целом — несомненно, присутствует здесь и своевольный, узнаваемый, даже настойчивый голос наблюдателя-созерцателя, его «я» с собственной — с первых же страниц заявляемой — позицией: «Вам нужен лай собачий наизнанку, / Мне — долгий дом у млечного откоса / С дроздами и свечением рябины», с рефлексией: «Мне надо бы пока остановиться <…> Я затаюсь у вянущей стены…» (Не говоря уж о том, что есть и не менее настойчиво возникающее «мы», к которому говорящий изнутри этих стихов себя причисляет: «Мы копим имена в укрывищах лесных / И если держим речь — то жилисто и плотно».) Допустим, это «я» не биографическое (при том, что явно обладает темпераментом, норовом, избирательностью, да и вообще сложным душевным устройством: «А вон — не я ли: ломок и в раздвое?» — смотрится повествователь в зеркало мироздания). Но у него несомненно есть — и выговаривается в этих текстах — то, что хочется начерно назвать макробиографией: жизнь, измеряющая себя тысячелетиями и космическими масштабами.
Уже погибаешь, — а в новую эру шагнешь
И выйдешь живым в незнакомые области мира.
И выйдешь живым в незнакомые области мира.
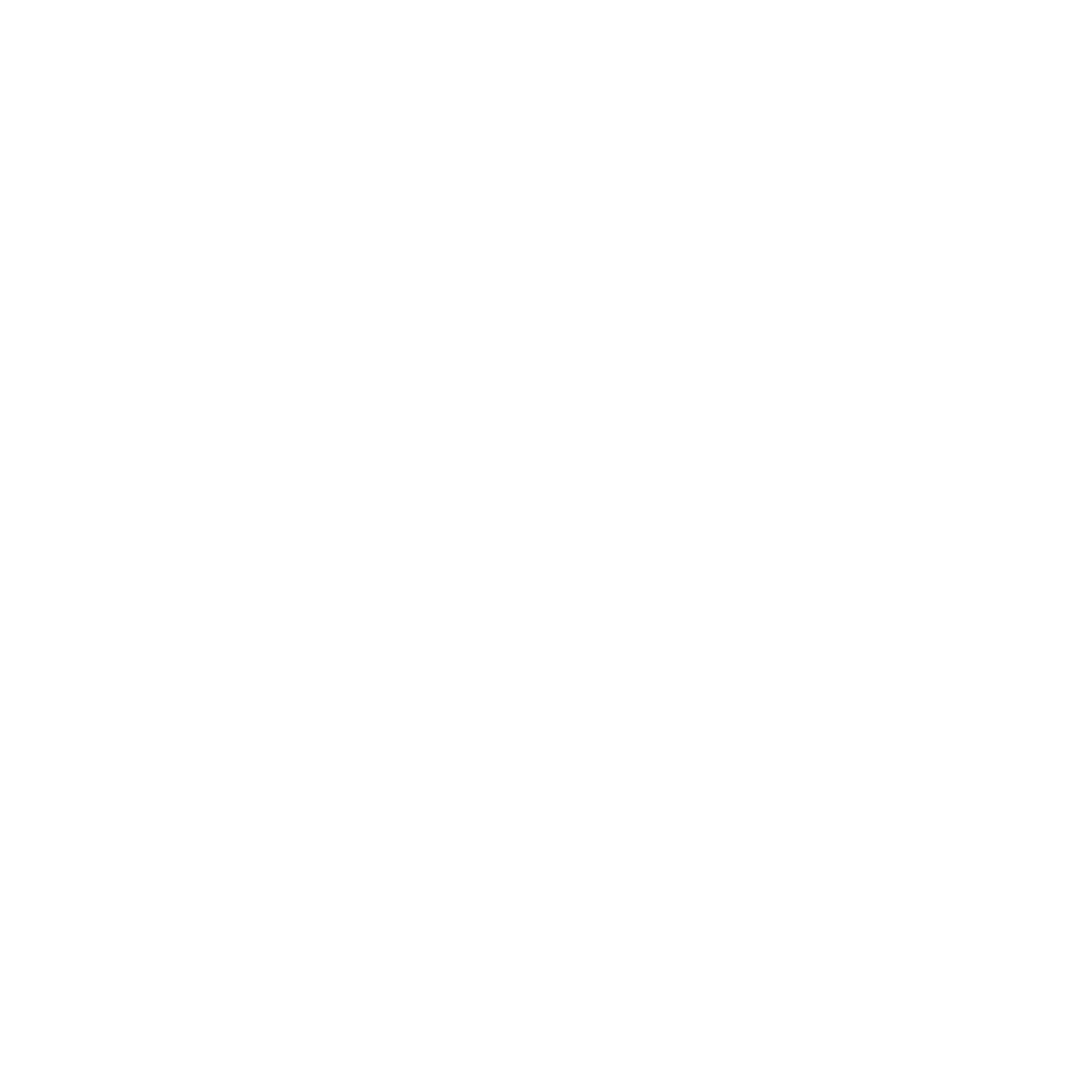
Наш взгляд, на наш взгляд, верен.
Каспийский груз
Я просмотрел много диалогов Наринской на ютубе. Тематика этих встреч фиолетова как дискуссии византийских монахов по Аверинцеву — настолько укоренены в поиске нюансов, что можно отвлечься от смысла слов и воспринимать чистые колебания. Я не зря взял эпиграфом предпоследнюю строчку из «Табор уходит в небо» «Каспийского груза». Беседа, например, Наринской — Таратуты отлично ляжет под биты даже без мата. Наринская часто перебивает своих собеседников. Но сама ли Наринская перебивает совопросников?..
Каспийский груз
Я просмотрел много диалогов Наринской на ютубе. Тематика этих встреч фиолетова как дискуссии византийских монахов по Аверинцеву — настолько укоренены в поиске нюансов, что можно отвлечься от смысла слов и воспринимать чистые колебания. Я не зря взял эпиграфом предпоследнюю строчку из «Табор уходит в небо» «Каспийского груза». Беседа, например, Наринской — Таратуты отлично ляжет под биты даже без мата. Наринская часто перебивает своих собеседников. Но сама ли Наринская перебивает совопросников?..
Пунктуация и орфография автора сохранены. – Ред.
Разумеется, это внутренний голос Наринской рвется наружу, а Наринская его не контролирует. Следовательно, принадлежит ли внутренний голос Наринской Наринской в полной мере?.. Или этот голос уже более зависит от соцсетей, чем от субъекта?.. Я имею основания полагать, что в национальном тянитолкае субъекта с соцсетями внутри Наринской побеждают соцсети, а субъект эртаульно отбрыкивается.
Если б Наринская могла выбирать себя, она была бы Юзефович. Юзефович хочет, чтоб человека перемалывал книгобизнес. Наринская согласна, чтоб человека перемалывали соцсети. Но Юзефович не любит Толстого, а Наринская любит.
Если б Наринская могла выбирать себя, она была бы Юзефович. Юзефович хочет, чтоб человека перемалывал книгобизнес. Наринская согласна, чтоб человека перемалывали соцсети. Но Юзефович не любит Толстого, а Наринская любит.
Всё можно простить Наринской за её любовь к Толстому и Блоку, но вот остальное простить нельзя.
Разберем тезисы Наринской «о современном чтении и писательстве».
«Единственный существующий способ описать действительность — описать именно это чувство растерянности» (и далее следующий абзац) «это тот реализм, который возможен, когда понимаешь, что ничего не понимаешь». (И наконец) «зияющая дыра современной русской литературы — это боязнь реальности, выражения своего отношения к ней». И теперь складываем 2 и 2, что «растерянность» Наринской видимо не позволила ей сделать. Наринская ищет рукавицы, а они за поясом. Если человек растерян и ничего не понимает, логично у него нет никакого отношения к реальности! И чтобы описать действительность, надо не в соцсетях бухтеть, а с Кордонским в поле, а, Агнесса Ивановна?..
Далее Наринская хвалит Глуховского за то, что он «декларативно увлечен сиюминутностью» (я предлагаю журналистов сюминутности ради переименовать в минутчиков или секундантов, потому что день длится дольше века), и утверждает, что «скоро в метро уже не будут пускать, если у тебя книга не вышла», а далее мы подходим к «ращелине»: «на самом деле что-то важное говорит не писатель, а тот, кто действительно говорит важное». Здесь тожесловие Наринской достигает хайдеггерианской мощи и глубины. Вопрос возникает, как определить важность?.. Наринская дает ответ: должен быть скандал вокруг. «Я не полюбила роман "Маленькая жизнь", но вокруг него были скандалы и споры… Это хорошо». Однако, 6-ю абзацами ниже, «когда "переперевели" Джейн Остин, Сэлинджера, был скандал. В итоге у нас все переводы застывшие». Видимо, потому что это был неправильный скандал. Не в нашу пользу скандал. Такая же «ращелина» и «растерянность» у Наринской по вопросу о мате. Мат на красной площади своими телами — «это прекрасный проект», мат у дочки вконтакте — это ужас, конечно.
Тут Наринская дает ЦУ в конце тоннеля. Ориентиром — «выработать более легкое отношение к этой проблеме». Я тут полностью согласен с прекрасной Анной Наринской, которая любит Толстого. Любая проблема решается вырабатыванием более легкого отношения к ней. Take it easy or leave it.
«Кстати, даже мне предлагали стать писателем» (хлестаковиански излагает Наринская). «Но в России такое невозможно». «Я, например, писателем быть не хочу». Я давно заметил, что проблемы всех проблемствующих в том, что те, кто не хочет, думают, что они не могут, а кто не может, почему-то думает, что не хочет.
«Единственный существующий способ описать действительность — описать именно это чувство растерянности» (и далее следующий абзац) «это тот реализм, который возможен, когда понимаешь, что ничего не понимаешь». (И наконец) «зияющая дыра современной русской литературы — это боязнь реальности, выражения своего отношения к ней». И теперь складываем 2 и 2, что «растерянность» Наринской видимо не позволила ей сделать. Наринская ищет рукавицы, а они за поясом. Если человек растерян и ничего не понимает, логично у него нет никакого отношения к реальности! И чтобы описать действительность, надо не в соцсетях бухтеть, а с Кордонским в поле, а, Агнесса Ивановна?..
Далее Наринская хвалит Глуховского за то, что он «декларативно увлечен сиюминутностью» (я предлагаю журналистов сюминутности ради переименовать в минутчиков или секундантов, потому что день длится дольше века), и утверждает, что «скоро в метро уже не будут пускать, если у тебя книга не вышла», а далее мы подходим к «ращелине»: «на самом деле что-то важное говорит не писатель, а тот, кто действительно говорит важное». Здесь тожесловие Наринской достигает хайдеггерианской мощи и глубины. Вопрос возникает, как определить важность?.. Наринская дает ответ: должен быть скандал вокруг. «Я не полюбила роман "Маленькая жизнь", но вокруг него были скандалы и споры… Это хорошо». Однако, 6-ю абзацами ниже, «когда "переперевели" Джейн Остин, Сэлинджера, был скандал. В итоге у нас все переводы застывшие». Видимо, потому что это был неправильный скандал. Не в нашу пользу скандал. Такая же «ращелина» и «растерянность» у Наринской по вопросу о мате. Мат на красной площади своими телами — «это прекрасный проект», мат у дочки вконтакте — это ужас, конечно.
Тут Наринская дает ЦУ в конце тоннеля. Ориентиром — «выработать более легкое отношение к этой проблеме». Я тут полностью согласен с прекрасной Анной Наринской, которая любит Толстого. Любая проблема решается вырабатыванием более легкого отношения к ней. Take it easy or leave it.
«Кстати, даже мне предлагали стать писателем» (хлестаковиански излагает Наринская). «Но в России такое невозможно». «Я, например, писателем быть не хочу». Я давно заметил, что проблемы всех проблемствующих в том, что те, кто не хочет, думают, что они не могут, а кто не может, почему-то думает, что не хочет.
Примерно так: … (непечатно) … надежда, мой компас земной … шурум-бурум-паам-пам-пам … (непечатно) в музыке только гармония есть … пурум-пум-пум … o father o Satan o sun … (непечатно) … шшшшшшшшш … (непечатно).
Если кто-нибудь думает, что моя внутренняя речь похожа на мои сочинения, то было бы ошибкой. Внутри меня хаос и моя внутренняя речь похожа на смесь непечатного, строк из популярных песен и бурчалок-сопелок.
Когда Наринская обмолвилась о «книжной навигации», я услышал в ее словах «Ной Нави». Недаром в Наринскую некогда был сослан Бродский, вернувшийся оттуда завывая. Бродский вслед за Ямамото Цунетомо dixit: читать нужно только стихи, важна только форма. Наринская действует иначе: есть способность нытья, есть нытье, есть спрос на нытье, есть распределение нытья через Соц. Сети. Кстати, Наринская сочувствует эсэсовцу Литтеллу просто потому, что у них аббревиатуры схожие.
Никакая информация человеку в сущности не нужна. Нужна форма. Информация человеку нужна, когда он уже не человек, а в походе расчеловечения. Нужно ли быть человеком, конечно, вопрос философский. У Достоевского в «Бесах» есть такое замечательное словцо «пустить судорогу». Вот информация и есть такое пускание судороги. Пускание информационной волны. Человеку настроения не нужны объяснения, а нужна информационная волна для вербального серфинга. Наринская человек настроения и поэтому переоценивает определенность своих стронг опиньенз — их собственно незачем допереписывать, ведь они изначально достаточно неопределенны. Человек который в одной фразе использует «кажется» и «абсолютно»: «Мне кажется, это абсолютно» — это человек, которому абсолютно кажется. «Абсолютно и так далее». Это «фактический факт».
Книжек новых издавать не нужно — старые есть. Бухтеть в СС не надо — книжки некогда будет читать. Литинститут должен выпускать толкователей классики и каллиграфоф. Вместо «Молодого папы» надо смотреть «Гоморру», а книжки читать как Миша Найман.
Когда Наринская обмолвилась о «книжной навигации», я услышал в ее словах «Ной Нави». Недаром в Наринскую некогда был сослан Бродский, вернувшийся оттуда завывая. Бродский вслед за Ямамото Цунетомо dixit: читать нужно только стихи, важна только форма. Наринская действует иначе: есть способность нытья, есть нытье, есть спрос на нытье, есть распределение нытья через Соц. Сети. Кстати, Наринская сочувствует эсэсовцу Литтеллу просто потому, что у них аббревиатуры схожие.
Никакая информация человеку в сущности не нужна. Нужна форма. Информация человеку нужна, когда он уже не человек, а в походе расчеловечения. Нужно ли быть человеком, конечно, вопрос философский. У Достоевского в «Бесах» есть такое замечательное словцо «пустить судорогу». Вот информация и есть такое пускание судороги. Пускание информационной волны. Человеку настроения не нужны объяснения, а нужна информационная волна для вербального серфинга. Наринская человек настроения и поэтому переоценивает определенность своих стронг опиньенз — их собственно незачем допереписывать, ведь они изначально достаточно неопределенны. Человек который в одной фразе использует «кажется» и «абсолютно»: «Мне кажется, это абсолютно» — это человек, которому абсолютно кажется. «Абсолютно и так далее». Это «фактический факт».
Книжек новых издавать не нужно — старые есть. Бухтеть в СС не надо — книжки некогда будет читать. Литинститут должен выпускать толкователей классики и каллиграфоф. Вместо «Молодого папы» надо смотреть «Гоморру», а книжки читать как Миша Найман.
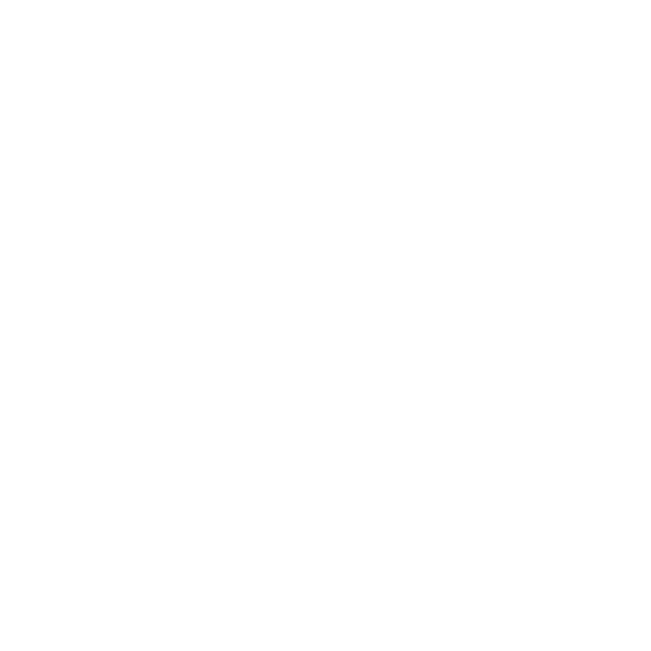
Роман Сенчин
Из прошлой атаки нашего отряда легкой кавалерии (Станислав Секретов, Сергей Морозов, Василий Ширяев и другие) мне запомнился выпад Дмитрия Бавильского. Смелый, яркий и достойный комментария. А вернее, размышления по поводу.
«Конечно, классики в моем сочувствии не нуждаются, — пишет Бавильский, — им в отличие от нас предстоит вечная жизнь в каноне.
Однако я ничего не могу с собой поделать — мне кажется, что тратить время на новые толстенные тома (а мода на такие протяженные романы только крепнет с каждым годом) заедающие чужое существование, по меньшей мере, странно, не ознакомившись перед этим со сливками всемирной литературы, хотя бы в пределах университетской программы».
«Конечно, классики в моем сочувствии не нуждаются, — пишет Бавильский, — им в отличие от нас предстоит вечная жизнь в каноне.
Однако я ничего не могу с собой поделать — мне кажется, что тратить время на новые толстенные тома (а мода на такие протяженные романы только крепнет с каждым годом) заедающие чужое существование, по меньшей мере, странно, не ознакомившись перед этим со сливками всемирной литературы, хотя бы в пределах университетской программы».
С одной стороны, верные слова. Литературный критик не может быть необразованным, он должен иметь культурный багаж, «знание контекста и истории жанров». С другой стороны, критика бывает разная. Сегодня процветает, скажем так, эстетическая. Ее мы наблюдаем, читая разбросанные по периодике рецензии, обзоры, расширенные аннотации. Авторы оценивают те или иные новые книги с точки зрения грамотности, оригинальности, зачастую сравнивают с уже известными (им, по крайней мере) образцами, появившимися ранее. Грубо говоря, сравнивают Михаила Елизарова с Владимиром Сорокиным.
Но есть критика, которую я не побоюсь назвать идеологической.
Сегодня она в полном упадке, и даже юное поколение критиков рассматривает произведения своих сверстников «при свете вечности» (отсылка к статье Андрея Немзера «Замечательное десятилетие»).
В слове «идеология» нет ничего плохого. Да, государственная идеология, это не очень приятно, но какое же государство может существовать без идеологии… Нас в 90-е убеждали, что в Западной Европе, в США ее нет, но мы поездили, увидели — есть она там, никуда от нее не денешься… Но я не о государственной идеологии, а об индивидуальной.
Каждый более или менее разумный человек годам к восемнадцати наполняется системой «политических, правовых, нравственных, религиозных, философских, эстетических взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности». А это и есть, если верить словарям, идеология.
И человек ищет в продуктах, произведенных и производимых цивилизацией, подтверждения своей системы. В том числе и в литературе. Какие-то произведения действительно подтверждают, какие-то кажутся человеку совершенно пустыми, какие-то спорят с ним, какие-то могут разрушить или изменить его систему. И ему необходимо об этом сообщить миру. И он, этот человек, берется за перо, шариковую ручку, хватает ноутбук…
Ему неизвестны разные филологические словечки, он наверняка не читал «Гильгамеша» и Гесиода, да и Тургенева с Достоевским имеет право знать на уровне школьной (а не университетской) программы, но вполне может писать сильные критические статьи. Не расширенные разборы одного или другого романа, а именно статьи, где тот или иной роман является поводом, точкой отталкивания. Отталкивания не в океан мировой всемирной литературы, а в реальную жизнь.
Но есть критика, которую я не побоюсь назвать идеологической.
Сегодня она в полном упадке, и даже юное поколение критиков рассматривает произведения своих сверстников «при свете вечности» (отсылка к статье Андрея Немзера «Замечательное десятилетие»).
В слове «идеология» нет ничего плохого. Да, государственная идеология, это не очень приятно, но какое же государство может существовать без идеологии… Нас в 90-е убеждали, что в Западной Европе, в США ее нет, но мы поездили, увидели — есть она там, никуда от нее не денешься… Но я не о государственной идеологии, а об индивидуальной.
Каждый более или менее разумный человек годам к восемнадцати наполняется системой «политических, правовых, нравственных, религиозных, философских, эстетических взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности». А это и есть, если верить словарям, идеология.
И человек ищет в продуктах, произведенных и производимых цивилизацией, подтверждения своей системы. В том числе и в литературе. Какие-то произведения действительно подтверждают, какие-то кажутся человеку совершенно пустыми, какие-то спорят с ним, какие-то могут разрушить или изменить его систему. И ему необходимо об этом сообщить миру. И он, этот человек, берется за перо, шариковую ручку, хватает ноутбук…
Ему неизвестны разные филологические словечки, он наверняка не читал «Гильгамеша» и Гесиода, да и Тургенева с Достоевским имеет право знать на уровне школьной (а не университетской) программы, но вполне может писать сильные критические статьи. Не расширенные разборы одного или другого романа, а именно статьи, где тот или иной роман является поводом, точкой отталкивания. Отталкивания не в океан мировой всемирной литературы, а в реальную жизнь.
А. Немзер. Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х годов. Новый мир. 2000. № 1.
Н. Кириллова. Медиакультура. Словарь терминов и понятий. М.: Флинта, 2019. С. 50.
Можно отталкиваться и от «Курочки Рябы» с «Колобком». Это, кстати, делают эстеты-стебники, чтоб позабавить публику и блеснуть креативностью, эрудицией и тому подобным. Но эти сказочки вполне достойны стать поводом для действительно серьезного разговора о мироустройстве.
Говорить о художественных достоинства или недостатках произведений, бесспорно, стоит. Правда, этот разговор не должен главенствовать, быть сверхзадачей критика. Большинство же сейчас занимаются стилистическими, смысловыми блохами (на вершине айсберга — Александр Кузьменков), бесконечно спорят о том, как оценивать «круглый стол овальной формы».
Представители эстетической критики бесконечно будут ходить по кругу и изобретать велосипед, что так печалит Дмитрия Бавильского. Эстетическая критика не может, по моему мнению, породить настоящие идеи, открыть действительно новое. Это может сделать критика идеологическая. А ее практически нет. Кто появился двадцатилетним в короткий период надежды на возможность настоящего обновления если не мира, то страны в начале нулевых, повзрослел, отшлифовался и переквалифицировался. А следующей волны все нет. Вот и закисаем.
Представители эстетической критики бесконечно будут ходить по кругу и изобретать велосипед, что так печалит Дмитрия Бавильского. Эстетическая критика не может, по моему мнению, породить настоящие идеи, открыть действительно новое. Это может сделать критика идеологическая. А ее практически нет. Кто появился двадцатилетним в короткий период надежды на возможность настоящего обновления если не мира, то страны в начале нулевых, повзрослел, отшлифовался и переквалифицировался. А следующей волны все нет. Вот и закисаем.

Дмитрий Бавильский
Кажется, мы первое поколение в истории человечества, способное работать в онлайн-библиотеках, то есть нам теперь в результате пары-другой кликов доступны любые тексты всех времен и народов. Актуальная словесность вынуждена выступать на поле неограниченных возможностей, конкурируя не в синхронии, но в диахронии.
И, разумеется, проигрывать классикам по глубине и «художественности».
Кстати, однажды так уже было, когда в Перестройку начали возвращаться запрещенные и отложенные книги, заполнив собой все пространство общественного внимания и убив, тем самым, ростки оригинальной литературы на несколько поколений вперед.
И, разумеется, проигрывать классикам по глубине и «художественности».
Кстати, однажды так уже было, когда в Перестройку начали возвращаться запрещенные и отложенные книги, заполнив собой все пространство общественного внимания и убив, тем самым, ростки оригинальной литературы на несколько поколений вперед.
Тут, конечно, возникает и выходит на первое место проблема выбора. Когда времени мало, а предложение многократно превышает спрос, человек волен выбирать тексты под малейшие нюансы своих духовных и интеллектуальных потребностей как то самое вино для конкретного времени суток, ну, или как парфюм, совпадающий с твоими собственными вибрациями или же нет. Если у меня сегодня плохо идет Гоголь, то, пожалуй, я возьмусь за Гюго.
Лучшие наши авторы давно уже поняли, что ревновать надо не к соседям и не к мужу Марьи Ивановны, но к Копернику и Кьеркегору. Это, в конце концов, продуктивнее, да и масштаб другой, «величие замысла» выше среднего.
Однако тогда вслед за фигурами классических текстов возникают фигуры классических (самых известных и привлекательных авторов) и вот с ними бороться (ну, или соревноваться) намного сложнее, чем с их бессмертными творениями.
Постмодернизм, внутри которого мы проживаем, предлагает нам любые ролевые модели на любой вкус, а каждый пишущий автор, так или иначе, чистит себя под светом тех или иных важных ему предшественников.
Каждый из них предлагает свою легенду, миф, набор дискурсов и жанров, а также прочих инструментов, облегчающих нам жизнь.
Ибо если ты успешен, то можешь кланяться писателям, прославившимся при жизни, а если отвержен — можешь найти утешение в биографиях мучеников литературы (настоящее творение — всегда проигрыш и мука, учил нас, дураков, Бланшо, а мы-то ему не поверили).
Это же Фрейд говорил, что никто не смеется в одиночестве, то есть в любой шутке всегда есть «место встречи» с коллегами по разуму, чьи ценностные и интеллектуальные установки ты разделяешь.
Любой автор в обязательном порядке ориентируется на те поведенческие стереотипы, что исподволь подтолкнули его к творчеству, так как мы накопили такое количество разномастных предшественников, что здесь, как на Ноевом ковчеге, давным-давно уже каждой твари по паре.
И это весьма мощная (так как чаще всего бессознательная) зависимость непреодолимого характера, сбивающая с истинного пути гораздо сильнее прямых или непрямых заимствований.
А, главное-то, что она бесплодная и какая-то, что ли, выхолащивающая.
Лучшие наши авторы давно уже поняли, что ревновать надо не к соседям и не к мужу Марьи Ивановны, но к Копернику и Кьеркегору. Это, в конце концов, продуктивнее, да и масштаб другой, «величие замысла» выше среднего.
Однако тогда вслед за фигурами классических текстов возникают фигуры классических (самых известных и привлекательных авторов) и вот с ними бороться (ну, или соревноваться) намного сложнее, чем с их бессмертными творениями.
Постмодернизм, внутри которого мы проживаем, предлагает нам любые ролевые модели на любой вкус, а каждый пишущий автор, так или иначе, чистит себя под светом тех или иных важных ему предшественников.
Каждый из них предлагает свою легенду, миф, набор дискурсов и жанров, а также прочих инструментов, облегчающих нам жизнь.
Ибо если ты успешен, то можешь кланяться писателям, прославившимся при жизни, а если отвержен — можешь найти утешение в биографиях мучеников литературы (настоящее творение — всегда проигрыш и мука, учил нас, дураков, Бланшо, а мы-то ему не поверили).
Это же Фрейд говорил, что никто не смеется в одиночестве, то есть в любой шутке всегда есть «место встречи» с коллегами по разуму, чьи ценностные и интеллектуальные установки ты разделяешь.
Любой автор в обязательном порядке ориентируется на те поведенческие стереотипы, что исподволь подтолкнули его к творчеству, так как мы накопили такое количество разномастных предшественников, что здесь, как на Ноевом ковчеге, давным-давно уже каждой твари по паре.
И это весьма мощная (так как чаще всего бессознательная) зависимость непреодолимого характера, сбивающая с истинного пути гораздо сильнее прямых или непрямых заимствований.
А, главное-то, что она бесплодная и какая-то, что ли, выхолащивающая.
Так как нельзя по-настоящему стать вторым Чораном или русским Мураками, современным Набоковым или еще одним Бродским: великие не повторяются, важнейшие их завоевания как раз и заключаются в открытии новых, и, как одноразовая посуда, неповторимых стратегий.
Конечно, их можно дублировать и копировать, противопоставляя «Рождественскому циклу» Бродского набор пасхальных стихотворений или ощущая себя прямым продолжением Сюзан Зонтаг или Зебальда размерами поменьше, но идущими как будто бы в том же самом направлении, однако, будет ли это считаться литературой?
В общем-то, будет, конечно, и не таких двойников-дублеров встречали, но в ситуации мучительно сжимающегося времени, наложенного на возможности неограниченного выбора, будут ли копии конкурентно успешнее своих прототипов?
Впрочем, люди не любят особо задумываться над своим выбором и чаще всего выбирают то, что им предлагают «профессионалы». Которые, в свою очередь, тоже ведь вольно или невольно копируют кто Белинского, кто Писарева, а кто Галковского с Топоровым — критики они ведь тоже люди и ничто человеческое нам не чуждо.
А то, что все уже было, так или иначе, в сюжетах или в подходах — такая же природная данность, как всемирное потепление.
В ситуации, когда новое открыть практически невозможно, многие утешаются комбинаторикой.
Однако подлинные открытия ждут нас, как кажется, на путях новых технологий — тех самых, что ограничивают и формализуют наше чтение.
Живопись, казалось бы, существовала веками, но расцвет венецианского искусства связан с освоением масляной краски, пришедшей в Италию с севера.
Фресками Венеция не особенно блещет из-за своего излишне влажного климата, но именно масло подарило нам не только братьев Беллини и Тициана с Тинторетто, но и всех Тьеполо (Гварди, Канналетто), весь этот поздний расцвет барокко, плавно переходящего в окончательно выхолощенный классицизм.
Последние десятилетия подарили нам такое количество новых коммуникационных форм, что игнорировать их невозможно. Да, вероятно, и не нужно, так как закрывая одни двери (пафоса и надмирного олимпизма бородатых классиков), они открывают десятки новых.
Я понял это, когда писал очерк о «Евангельском цикле» художников Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой. В основу своих больших композиций они положили перерисованные фотографии из новостной хроники, сопровождаемой библейскими изречениями. Показывая свои последние работы, Врубель заметил, что этот проект не был возможен еще полгода назад, так как в России тогда не работали платежные системы, позволявшие покупать у западных информационных агентств свежие фотографии.
Теперь они есть, из-за чего пришла в голову такая вот идея, оказавшаяся продуктивной.
Сами по себе технологии автоматически не гарантируют прорыва, но могут помочь взглянуть в правильном направлении. Хотя бы взглянуть, остальное же — дело твоих собственных творческих возможностей: платежные системы существуют для всех, но до «Евангельского цикла» додумались лишь Врубель с Тимофеевой.
В общем-то, будет, конечно, и не таких двойников-дублеров встречали, но в ситуации мучительно сжимающегося времени, наложенного на возможности неограниченного выбора, будут ли копии конкурентно успешнее своих прототипов?
Впрочем, люди не любят особо задумываться над своим выбором и чаще всего выбирают то, что им предлагают «профессионалы». Которые, в свою очередь, тоже ведь вольно или невольно копируют кто Белинского, кто Писарева, а кто Галковского с Топоровым — критики они ведь тоже люди и ничто человеческое нам не чуждо.
А то, что все уже было, так или иначе, в сюжетах или в подходах — такая же природная данность, как всемирное потепление.
В ситуации, когда новое открыть практически невозможно, многие утешаются комбинаторикой.
Однако подлинные открытия ждут нас, как кажется, на путях новых технологий — тех самых, что ограничивают и формализуют наше чтение.
Живопись, казалось бы, существовала веками, но расцвет венецианского искусства связан с освоением масляной краски, пришедшей в Италию с севера.
Фресками Венеция не особенно блещет из-за своего излишне влажного климата, но именно масло подарило нам не только братьев Беллини и Тициана с Тинторетто, но и всех Тьеполо (Гварди, Канналетто), весь этот поздний расцвет барокко, плавно переходящего в окончательно выхолощенный классицизм.
Последние десятилетия подарили нам такое количество новых коммуникационных форм, что игнорировать их невозможно. Да, вероятно, и не нужно, так как закрывая одни двери (пафоса и надмирного олимпизма бородатых классиков), они открывают десятки новых.
Я понял это, когда писал очерк о «Евангельском цикле» художников Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой. В основу своих больших композиций они положили перерисованные фотографии из новостной хроники, сопровождаемой библейскими изречениями. Показывая свои последние работы, Врубель заметил, что этот проект не был возможен еще полгода назад, так как в России тогда не работали платежные системы, позволявшие покупать у западных информационных агентств свежие фотографии.
Теперь они есть, из-за чего пришла в голову такая вот идея, оказавшаяся продуктивной.
Сами по себе технологии автоматически не гарантируют прорыва, но могут помочь взглянуть в правильном направлении. Хотя бы взглянуть, остальное же — дело твоих собственных творческих возможностей: платежные системы существуют для всех, но до «Евангельского цикла» додумались лишь Врубель с Тимофеевой.

Яна Семёшкина
Еще пять лет назад подкастинг в России походил на интеллектуальное гетто. Он прорастал на отшибе культурного процесса, без перспектив оказаться в удобренной почве коммерции.
Прошло время, теперь каждый третий медиабренд пишет подкаст.
В хорошей истории бренды не обязательно главные герои, они передают свой голос реальным людям — знаменитостям, публичным интеллектуалам или микро-инфлюенсерам. Если сделать ставку на правильных людей, они вдохнут жизнь и смысл в философию брендов, их ценности и убеждения.
Вместо традиционных методов рекламы компании концентрируются на эмоциональном сторителлинге через подкасты, поскольку аудиоблоги сохраняют нишевость и элитарность. В этом — их конкурентное преимущество перед другими форматами.
Прошло время, теперь каждый третий медиабренд пишет подкаст.
В хорошей истории бренды не обязательно главные герои, они передают свой голос реальным людям — знаменитостям, публичным интеллектуалам или микро-инфлюенсерам. Если сделать ставку на правильных людей, они вдохнут жизнь и смысл в философию брендов, их ценности и убеждения.
Вместо традиционных методов рекламы компании концентрируются на эмоциональном сторителлинге через подкасты, поскольку аудиоблоги сохраняют нишевость и элитарность. В этом — их конкурентное преимущество перед другими форматами.
Мода на подкасты никакая, на самом деле, не мода. Интерес к подкастингу вызван запросом на экологичность. Вокруг слишком много информационного мусора. На этом фоне подкасты выступают самым экологичным жанром, в отличие от таких хронофагов, как видео в ютубе, лента инстаграма и даже книги.
Сегодня преобладающая модель на медиарынке выглядит так: «бесплатный контент — в обмен на ваше внимание и время». В современном мире время и внимание — самые ценные ресурсы. Чтобы получить удовольствие от потребления контента, будь то сериал, ролик на ютубе, свежая новость или роман, — нужно потратить время, то есть посмотреть, почитать, но главное — не отвлекаться на посторонние предметы.
Пока вы смотрите сериал или листаете ленту инстаграма, вы статичны и не собираетесь совмещать просмотр ни с чем другим. Так может пройти час, два, три. Так проходит много часов. В 2019 году, по данным агентства «We Are Social» и сервиса «Hootsuite», среднестатистический россиянин тратит на потребление интернет-контента 6 часов 29 минут в день.
Мы перегружаем себя терабайтами информации — осознанно или не очень. Нейрофизиологи говорят, что в мозгу остается все, что мы когда-либо видели и слышали.
Наше сознание и память зашлаковываются. Начинается гниение того, что переработаться не может. Не у каждого, кто свайпает ленту новостей, вырабатывается фермент для переваривания информационного фастфуда — вредного, калорийного контента.
Всякий раз, когда входящая информация нарушает упорядоченность нашего сознания, мы оказываемся в состоянии внутреннего беспорядка, или психической энтропии. Продолжительное пребывание в таком состоянии может настолько ослабить личность, что человек лишится способности управлять своим вниманием и достигать целей.
Любой жанр, в который запечатан контент — по умолчанию хронофаг (пожиратель времени). Любой, кроме подкаста.
Подкасты вне этой гонки. Они не конкурируют ни за время, ни за внимание слушателя.
Наоборот, накапливают его ресурсы. Они сохраняют наше время, а если говорить начистоту, даже приумножают его. Потому что, слушая подкаст, мы успеваем гораздо больше.
Сегодня преобладающая модель на медиарынке выглядит так: «бесплатный контент — в обмен на ваше внимание и время». В современном мире время и внимание — самые ценные ресурсы. Чтобы получить удовольствие от потребления контента, будь то сериал, ролик на ютубе, свежая новость или роман, — нужно потратить время, то есть посмотреть, почитать, но главное — не отвлекаться на посторонние предметы.
Пока вы смотрите сериал или листаете ленту инстаграма, вы статичны и не собираетесь совмещать просмотр ни с чем другим. Так может пройти час, два, три. Так проходит много часов. В 2019 году, по данным агентства «We Are Social» и сервиса «Hootsuite», среднестатистический россиянин тратит на потребление интернет-контента 6 часов 29 минут в день.
Мы перегружаем себя терабайтами информации — осознанно или не очень. Нейрофизиологи говорят, что в мозгу остается все, что мы когда-либо видели и слышали.
Наше сознание и память зашлаковываются. Начинается гниение того, что переработаться не может. Не у каждого, кто свайпает ленту новостей, вырабатывается фермент для переваривания информационного фастфуда — вредного, калорийного контента.
Всякий раз, когда входящая информация нарушает упорядоченность нашего сознания, мы оказываемся в состоянии внутреннего беспорядка, или психической энтропии. Продолжительное пребывание в таком состоянии может настолько ослабить личность, что человек лишится способности управлять своим вниманием и достигать целей.
Любой жанр, в который запечатан контент — по умолчанию хронофаг (пожиратель времени). Любой, кроме подкаста.
Подкасты вне этой гонки. Они не конкурируют ни за время, ни за внимание слушателя.
Наоборот, накапливают его ресурсы. Они сохраняют наше время, а если говорить начистоту, даже приумножают его. Потому что, слушая подкаст, мы успеваем гораздо больше.
Мы успеваем побегать и узнать, кем на самом деле был Уильям Шекспир. Успеваем приготовить ужин, помыть посуду, позаниматься йогой, пока в наушниках играет любимый подкаст — мы выигрываем дополнительное время, расходуя его максимально рационально.
Подкасты — настоящая находка для осознанного и занятого слушателя.
Подкасты обладают способностью не только развлекать, но и вовлекать. Причем без особых затрат силы воли со стороны аудитории. Вы моментально концентрируетесь на контенте и при этом занимаетесь другими делами. Подкаст вводит слушателя в состояние потока.
(Состояние потока открыл американский психолог Михай Чиксентмихайи, это состояние полной поглощенности деятельностью, когда все остальное отступает на задний план, а удовольствие от самого процесса настолько велико, что люди готовы платить только за то, чтобы заниматься этим).
Подкасты — это мощный инструмент образования, рефлексии и самопомощи. Прослушивание подкаста всегда осознанное, в отличие от скроллинга ленты в инстаграме или вирусных видео на ютубе. Вы включаете выпуск подкаста, чтобы изучить тему личного бренда или посмеяться над шутками ведущих или узнать новую информацию о Пушкине. Когда вы нажимаете кнопку «плей», вы, скорее всего, знаете, чего хотите в эту самую секунду от этого контента. Вы ведете себя осознанно.
Подкасты — это evergreen content. Вечнозеленый продукт, который не теряет своей актуальности с течением времени, его можно масштабировать в разных форматах, начиная с соцсетей, заканчивая книгами.
Кроме того, подкасты отвечают правилу «трех "и"»:
Подкасты обладают способностью не только развлекать, но и вовлекать. Причем без особых затрат силы воли со стороны аудитории. Вы моментально концентрируетесь на контенте и при этом занимаетесь другими делами. Подкаст вводит слушателя в состояние потока.
(Состояние потока открыл американский психолог Михай Чиксентмихайи, это состояние полной поглощенности деятельностью, когда все остальное отступает на задний план, а удовольствие от самого процесса настолько велико, что люди готовы платить только за то, чтобы заниматься этим).
Подкасты — это мощный инструмент образования, рефлексии и самопомощи. Прослушивание подкаста всегда осознанное, в отличие от скроллинга ленты в инстаграме или вирусных видео на ютубе. Вы включаете выпуск подкаста, чтобы изучить тему личного бренда или посмеяться над шутками ведущих или узнать новую информацию о Пушкине. Когда вы нажимаете кнопку «плей», вы, скорее всего, знаете, чего хотите в эту самую секунду от этого контента. Вы ведете себя осознанно.
Подкасты — это evergreen content. Вечнозеленый продукт, который не теряет своей актуальности с течением времени, его можно масштабировать в разных форматах, начиная с соцсетей, заканчивая книгами.
Кроме того, подкасты отвечают правилу «трех "и"»:
1
Инклюзивно
2
Иммерсивно
3
Интимно
Инклюзивность подкастинга обусловлена жанром, аудиоблог ориентирован на максимально широкую аудиторию.
Иммерсивность или эффект присутствия — главное преимущество подкастов, которое позволяет онлайн формату функционировать в режиме оффлайн и служит инструментом нативного пиара и продвижения.
Интимность — каждый раз, когда вы слушаете подкаст, Вам кажется, что вы беседуете с автором подкаста на его кухне. Важный фактор для тех, кто задумал развивать личный бренд посредством аудиоблога.
Таким образом, подкаст — самый экологичный жанр, мода на подкасты — гораздо более глубокое явление, чем просто тренд. Она вписывается в так называемую интеллектуальную волну экологичности на фоне информационной и промышленной токсичности.
Информация повсюду, она накачивает собой город, мысли, ваш свободный вечер и даже московский август — холодный, как арбуз — он заряжен информацией до предела, мы все заряжены — вот-вот все это рванет и ничего не останется.
Информация — это хронофаг, пожиратель времени. Она растворена в воздухе мы не видим этой концентрации, но чувствуем на себе все последствия. Раздерганность сознания, рассеянность, повышенная тревожность, чуткий сон, плохая память.
Единственный выход — заботится об информационном метаболизме, ограничивая потребление калорийного контента. Информация, допускаемая в сознание, чрезвычайно важна, по сути, именно она определяет содержание и качество жизни.
Иммерсивность или эффект присутствия — главное преимущество подкастов, которое позволяет онлайн формату функционировать в режиме оффлайн и служит инструментом нативного пиара и продвижения.
Интимность — каждый раз, когда вы слушаете подкаст, Вам кажется, что вы беседуете с автором подкаста на его кухне. Важный фактор для тех, кто задумал развивать личный бренд посредством аудиоблога.
Таким образом, подкаст — самый экологичный жанр, мода на подкасты — гораздо более глубокое явление, чем просто тренд. Она вписывается в так называемую интеллектуальную волну экологичности на фоне информационной и промышленной токсичности.
Информация повсюду, она накачивает собой город, мысли, ваш свободный вечер и даже московский август — холодный, как арбуз — он заряжен информацией до предела, мы все заряжены — вот-вот все это рванет и ничего не останется.
Информация — это хронофаг, пожиратель времени. Она растворена в воздухе мы не видим этой концентрации, но чувствуем на себе все последствия. Раздерганность сознания, рассеянность, повышенная тревожность, чуткий сон, плохая память.
Единственный выход — заботится об информационном метаболизме, ограничивая потребление калорийного контента. Информация, допускаемая в сознание, чрезвычайно важна, по сути, именно она определяет содержание и качество жизни.
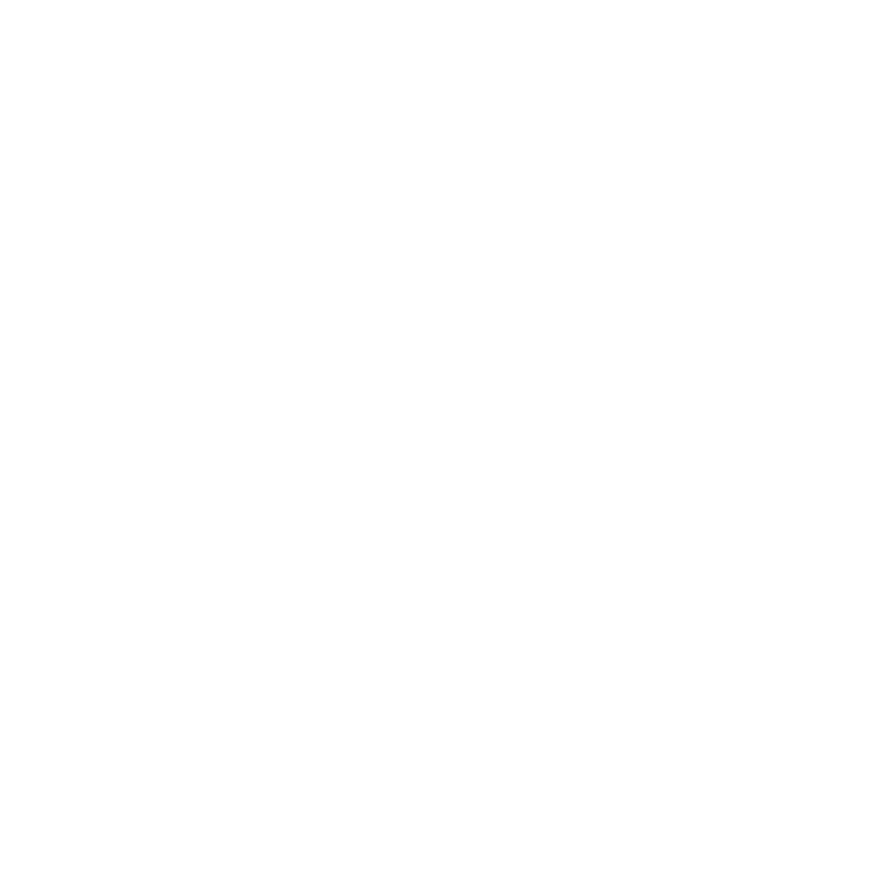
Кирилл Молоков
Совсем недавно закончился, пожалуй, лучший сериал в истории кинематографа. Кто-то, возможно, не согласится, но даже этот кто-то, читая первое предложение, наверняка подумал об «Игре престолов». И дело тут вовсе не в словах «недавно закончился», а в том, что сериал действительно можно назвать главным шедевром в мире искусства этого десятилетия — и даже пока столетия. Тем не менее, несмотря на то, что на сегодняшний день этот титул объективно вряд ли кто-то сможет оспорить, сериал, нещадно рубя головы своих противников на протяжении четырех-пяти сезонов на пути к Королевской Гавани в мире сериалов, изнемогая, тяжело закашлял на шестом и седьмом и как-то неуверенно, ковыляя из последних сил, дошел до трона в восьмом.
Сериал, в котором было абсолютно все, — от великолепной актерской игры до операторской работы, — почему-то очень сильно подкачал на финишной прямой в том, что столько лет собирало многомиллионный фандом. «Игра престолов», выражаясь просто и лаконично, буквально слилась в плане сюжета, сделав слишком сильный упор на экшн, который хоть и удался, но конкуренцию визитным карточкам «Marvel», к сожалению, составить так и не смог.
Конечно, по общим меркам последний сезон оказался хорошим, местами даже отличным, но по меркам «Игры престолов» — это провал; о чем говорит и петиция на Change.org с просьбой переснять финальный сезон, которая уже собрала более миллиона подписей. Основная причина — сценарий. Кто-то считает, что виной всему отсутствие первоисточника в виде книг Джорджа Мартина, который прекрасно справлялся со своей работой. Да, американский Толкин вроде как консультировал создателей сериала, но в конце концов это лишь консультация; да и кто знает, может Мартин решил таким образом закончить свою эпопею иначе, тем самым сделав себе качественную бесплатную рекламу. Другие считают, что всему виной планка, которую сериал сам себе и задал, а потом, не выдержав темп, потянул в мощном прыжке мышцу и упал, даже не достигнув прежней высоты. Я из второй категории людей, однако думаю, что сериал мог очень легко избежать этого.
Для закоренелых фанатов «Игры престолов» не секрет, что на просторах ютуба едва ли не с самого запуска сериала можно было найти десятки безумных фан-теорий о том, как сюжет может развиться в будущем, что обозначают те или иные символы, кем на самом деле является тот или иной персонаж и многое другое. Какие-то из версий были буквально высосаны из пальца, какие-то хоть и казались занимательными, но имели слишком много сюжетных дыр и нестыковок. Однако в этой куче абсурда и даже порой безумия можно было легко найти тонкие сюжетные повороты и объяснения тем вещам, которые так и остались в сериале нераскрытыми. Вопрос: что мешало сценаристам воспользоваться ими?
В современном бизнесе довольно часто применяется такой инструмент как дизайн-мышление. Основная суть заключается в решении проблемы, основываясь на творческом, а не аналитическом мышлении. Если коротко, то проблема решается генерацией идей, которые затем тестируются на потребителях и, выявляя все недостатки, выпускаются в качестве конечного продукта максимально ориентированного на целевую аудиторию. Я не спроста начал этот этюд с не совсем литературного произведения (хотя и во многом появившегося благодаря именно литературе), поскольку именно этот сериал применение методов дизайн-мышления могло бы сделать гораздо лучше. Нет, речь идет не о генерации идей, а об ориентированности на аудиторию, запросы которой можно было легко удовлетворить, воспользовавшись различными теориями ярых поклонников.
Многие воскликнут: «Как же так? Это же искусство!.. Муза!.. Вдохновение!». В какой-то мере эти люди окажутся правы, поскольку искусство — это все-таки очень часто довольно эгоцентричная экспрессия художника по поводу того, что его больше всего волнует и тревожит. А «угождать» публике означает, как правило, если не идти наперекор себе, то как минимум далеко не всегда делать то, что хочет сам художник. И в таких ситуациях произведения часто оказываются очень слабыми, буквально выжатыми из «не хочу, но надо» закусками между основными блюдами конкурентов. Но вспомните, как Артур Конан Дойл вернул своего главного персонажа, какую роль сыграл Пушкин в появлении произведений Гоголя; а также «Гамлета» Шекспира и «Одиссею», и «Илиаду» Гомера, которые создавались не без помощи других, уже готовых прообразов и легенд.
Конечно, по общим меркам последний сезон оказался хорошим, местами даже отличным, но по меркам «Игры престолов» — это провал; о чем говорит и петиция на Change.org с просьбой переснять финальный сезон, которая уже собрала более миллиона подписей. Основная причина — сценарий. Кто-то считает, что виной всему отсутствие первоисточника в виде книг Джорджа Мартина, который прекрасно справлялся со своей работой. Да, американский Толкин вроде как консультировал создателей сериала, но в конце концов это лишь консультация; да и кто знает, может Мартин решил таким образом закончить свою эпопею иначе, тем самым сделав себе качественную бесплатную рекламу. Другие считают, что всему виной планка, которую сериал сам себе и задал, а потом, не выдержав темп, потянул в мощном прыжке мышцу и упал, даже не достигнув прежней высоты. Я из второй категории людей, однако думаю, что сериал мог очень легко избежать этого.
Для закоренелых фанатов «Игры престолов» не секрет, что на просторах ютуба едва ли не с самого запуска сериала можно было найти десятки безумных фан-теорий о том, как сюжет может развиться в будущем, что обозначают те или иные символы, кем на самом деле является тот или иной персонаж и многое другое. Какие-то из версий были буквально высосаны из пальца, какие-то хоть и казались занимательными, но имели слишком много сюжетных дыр и нестыковок. Однако в этой куче абсурда и даже порой безумия можно было легко найти тонкие сюжетные повороты и объяснения тем вещам, которые так и остались в сериале нераскрытыми. Вопрос: что мешало сценаристам воспользоваться ими?
В современном бизнесе довольно часто применяется такой инструмент как дизайн-мышление. Основная суть заключается в решении проблемы, основываясь на творческом, а не аналитическом мышлении. Если коротко, то проблема решается генерацией идей, которые затем тестируются на потребителях и, выявляя все недостатки, выпускаются в качестве конечного продукта максимально ориентированного на целевую аудиторию. Я не спроста начал этот этюд с не совсем литературного произведения (хотя и во многом появившегося благодаря именно литературе), поскольку именно этот сериал применение методов дизайн-мышления могло бы сделать гораздо лучше. Нет, речь идет не о генерации идей, а об ориентированности на аудиторию, запросы которой можно было легко удовлетворить, воспользовавшись различными теориями ярых поклонников.
Многие воскликнут: «Как же так? Это же искусство!.. Муза!.. Вдохновение!». В какой-то мере эти люди окажутся правы, поскольку искусство — это все-таки очень часто довольно эгоцентричная экспрессия художника по поводу того, что его больше всего волнует и тревожит. А «угождать» публике означает, как правило, если не идти наперекор себе, то как минимум далеко не всегда делать то, что хочет сам художник. И в таких ситуациях произведения часто оказываются очень слабыми, буквально выжатыми из «не хочу, но надо» закусками между основными блюдами конкурентов. Но вспомните, как Артур Конан Дойл вернул своего главного персонажа, какую роль сыграл Пушкин в появлении произведений Гоголя; а также «Гамлета» Шекспира и «Одиссею», и «Илиаду» Гомера, которые создавались не без помощи других, уже готовых прообразов и легенд.
Идея и ее реализация — это совершенно разные вещи. В том, чтобы думать, что именно вам одному единственному пришла какая-то идея есть большое искушение. Однако какой бы гениальной она ни была, без реализации мы бы никогда не увидели ни одного произведения искусства.
Поэтому гораздо важнее то, как эти идеи реализовываются, а не то, сам ли художник до них додумался, или же кто-то ему их подсказал.
Есть тонкая грань между «угождением публики» и созданием произведения, которое из-за каких-то мелких недоработок нуждается в идеях со стороны, чтобы объективно приобрести какую-то ценность. Здесь лишь остается вопрос о гордости, которую художникам в таких случаях необходимо переступать, прибегая к помощи других, тем более, если эти другие оказываются разношерстной публикой, а не какими-нибудь критиками передовых журналов или коллегами по цеху. И все же когда под рукой есть интернет (особенно если вы состоявшийся писатель с широким кругом почитателей и пишете серию романов), то порой подглядывание идей в комментариях хоть и может показаться не слишком красивым с точки зрения морали, однако вряд ли навредит красоте вашего произведения. «Игра престолов» тому очень хороший пример.
Есть тонкая грань между «угождением публики» и созданием произведения, которое из-за каких-то мелких недоработок нуждается в идеях со стороны, чтобы объективно приобрести какую-то ценность. Здесь лишь остается вопрос о гордости, которую художникам в таких случаях необходимо переступать, прибегая к помощи других, тем более, если эти другие оказываются разношерстной публикой, а не какими-нибудь критиками передовых журналов или коллегами по цеху. И все же когда под рукой есть интернет (особенно если вы состоявшийся писатель с широким кругом почитателей и пишете серию романов), то порой подглядывание идей в комментариях хоть и может показаться не слишком красивым с точки зрения морали, однако вряд ли навредит красоте вашего произведения. «Игра престолов» тому очень хороший пример.
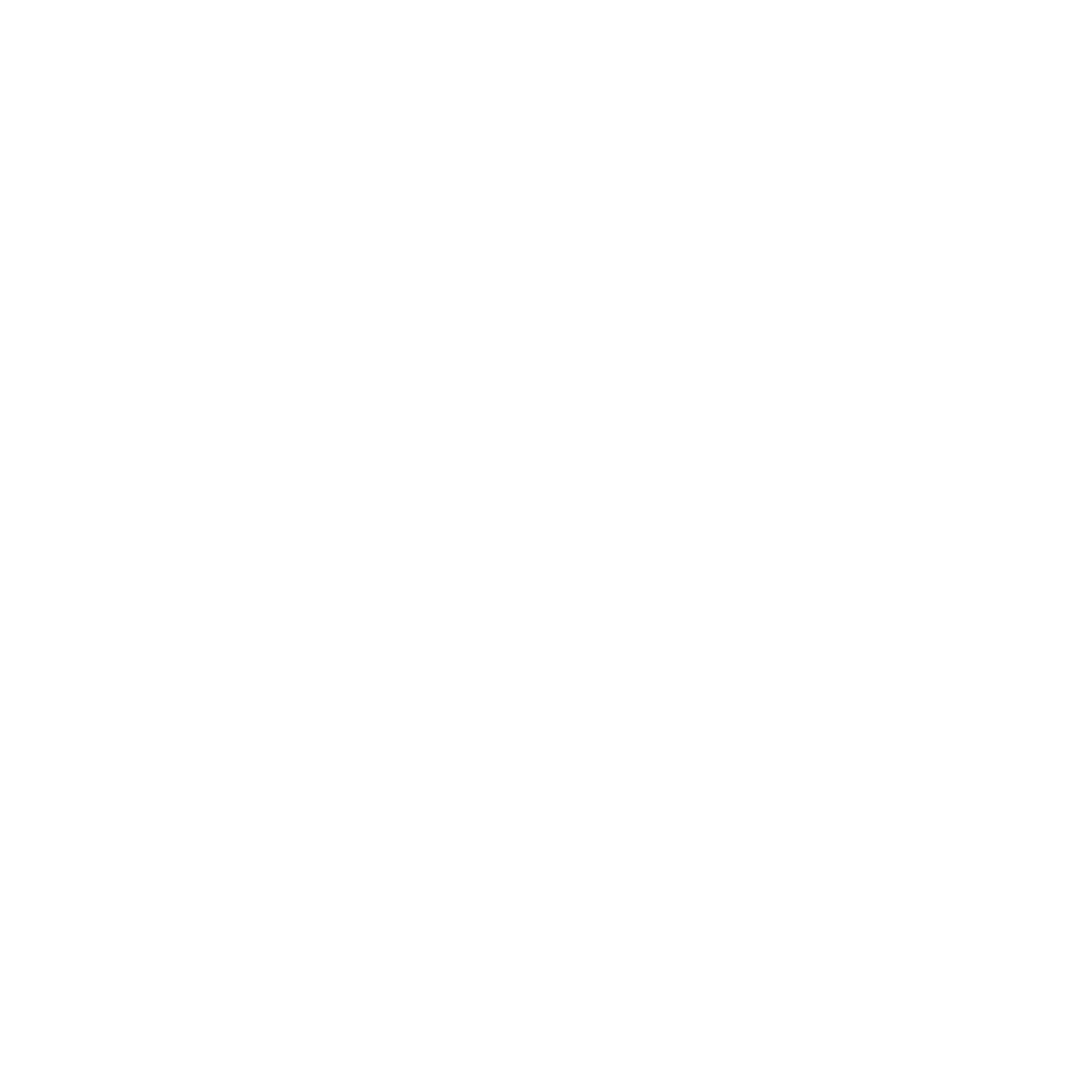
Анна Жучкова
Говорят, сегодня мало беллетристики. А мне кажется наоборот: премиальные списки состоят преимущественно из нее.
Мало, на самом деле, высокой прозы, которая почти не видна, пока ищет новой выразительности на стыке с литературой жанра: фэнтези, хоррором, литературой doc. Наиболее интересные процессы происходят сейчас там, на границе верхнего и нижнего «этажей».
Литературу, как известно, принято делить на «этажи». Первый — литература жанра. Она работает с приключениями сюжета (когда все заранее понятно, но любопытно, как герои выкрутятся на этот раз). Фантасты, говорил Топоров, читателя «не уважают и решения предлагают» готовые, в отличие от авторов боллитры, которые «пишут для умных людей. Уважают читателя. Не зная решения, предлагают решение метафорическое или символическое; решение суггестивное, решение будоражащее».
Мало, на самом деле, высокой прозы, которая почти не видна, пока ищет новой выразительности на стыке с литературой жанра: фэнтези, хоррором, литературой doc. Наиболее интересные процессы происходят сейчас там, на границе верхнего и нижнего «этажей».
Литературу, как известно, принято делить на «этажи». Первый — литература жанра. Она работает с приключениями сюжета (когда все заранее понятно, но любопытно, как герои выкрутятся на этот раз). Фантасты, говорил Топоров, читателя «не уважают и решения предлагают» готовые, в отличие от авторов боллитры, которые «пишут для умных людей. Уважают читателя. Не зная решения, предлагают решение метафорическое или символическое; решение суггестивное, решение будоражащее».
В. Топоров. Фантаст родился // Жесткая ротация. СПб: Пальмира – М.: Книга по требованию, 2018. С. 372.
Не будем обобщать про фантастов, здесь нам важна лишь мысль про готовые решения в литературе жанра. Требования к языку в ней несущественны: минимум — правильный русский язык, максимум — индивидуальный речевой стиль (не путать с художественным).
Второй этаж — беллетристика. Она работает с приключениями времени: исторической ситуацией, атмосферой, героями эпохи, модными художественными стилями. Беллетристике, в отличие от жанровой литературы, уже нужен хороший литературный язык. Хотя функцию он выполняет служебную.
И только третий этаж, высокая проза, работает непосредственно с языком. Приключения языка, открытие его новых эстетических измерений — ее главное дело. Достижения предыдущих этажей (сюжет, характеры и прочее) тоже важны, но не являются обязательными. Это уровень индивидуальных художественных стилей, горнило новых направлений в искусстве. Высокая проза не знает готовых решений. Общая схема, шаблон (речевой ли, сюжетный) — маркер нижних этажей литературы. «У беллетристики и классики нет общих штолен, нет общих тканей. У них разный и контекст. <…> Если классик, образно говоря, — сначала садовник, а потом архитектор храма, растущего одновременно вниз и вверх, то беллетрист и изначально, и на дальнейших этапах создания произведения арматурщик, искусный рабочий».
Но вот загадка — роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вошел в премиальные списки, хотя и не высокая проза (со штампами перебор); феноменально популярен, хотя вроде и не жанровая литература (темы поднимает большие, исторические).
Второй этаж — беллетристика. Она работает с приключениями времени: исторической ситуацией, атмосферой, героями эпохи, модными художественными стилями. Беллетристике, в отличие от жанровой литературы, уже нужен хороший литературный язык. Хотя функцию он выполняет служебную.
И только третий этаж, высокая проза, работает непосредственно с языком. Приключения языка, открытие его новых эстетических измерений — ее главное дело. Достижения предыдущих этажей (сюжет, характеры и прочее) тоже важны, но не являются обязательными. Это уровень индивидуальных художественных стилей, горнило новых направлений в искусстве. Высокая проза не знает готовых решений. Общая схема, шаблон (речевой ли, сюжетный) — маркер нижних этажей литературы. «У беллетристики и классики нет общих штолен, нет общих тканей. У них разный и контекст. <…> Если классик, образно говоря, — сначала садовник, а потом архитектор храма, растущего одновременно вниз и вверх, то беллетрист и изначально, и на дальнейших этапах создания произведения арматурщик, искусный рабочий».
Но вот загадка — роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вошел в премиальные списки, хотя и не высокая проза (со штампами перебор); феноменально популярен, хотя вроде и не жанровая литература (темы поднимает большие, исторические).
Е. И. Зейферт Стереоскопичность картины мира Чингиза Айтматова в контексте идей Льва Толстого // Л. Н. Толстой: Истоки и вехи творческого пути. Казань: Издательство Казанского университета, 2018. С. 128.
Может, Яхина — главный беллетрист нашего времени?
Ведь каждому времени — свой беллетрист. Если для высокой прозы проблемы современности — трамплин к трансцендентному, то для беллетристики — вся ее суть. Декорации могут быть любыми, важен дух эпохи.
Так книги Улицкой отражают атмосферу слабости личности перед махиной государства. Толпа и давка — частые образы в беллетристике того времени: Л. Улицкая — «Казус Кукоцкого», «Зеленый шатер», Б. Васильев — «Утоли моя печали», Б. Акунин — «Коронация». Поколение Улицкой, не верящее ни в бога, ни в черта, ни в Советский Союз, тем не менее верило в общую справедливость. И Улицкая создала альтернативный образ справедливости и порядка: лестницу рода.
Маринина — бытописатель 1990-х. Ее романы о Каменской — сага отчаянных временен, где деньги — у. е., сахар — роскошь, а смерть — обыденность. И речь идет уже не об общем порядке, а о сохранении представлений о добре и зле. Нынешнему поколению мир Марининой непонятен, как и романы Улицкой, похожие на сплетение темных венозных жил.
Зато жанровая литература с ее простыми общечеловеческими схемами не привязана к шуму времен. И «Зулейха» не привязана тоже. В ней нет попытки понять современность, объяснить историю. Травма Х Х века без всякого ущерба здесь может быть заменена травмой монголо-татарского ига или эпидемией чумы. «Ни автор, ни текст не задумываются о том, почему произошла коллективизация, какие причины ее вызвали, какой исторический смысл она несла. Никакой логики, никаких причин. Просто страшная катастрофа». Сборная модель сентиментального романа: честная девушка, злой муж, ведьма-свекровь, добрый доктор и романтический враг в декорациях какой-то катастрофы.
Нет здесь и психологического обоснования: тридцатилетняя героиня тайком носит на могилы дочерей пастилу и страшно боится свекрови. Никогда не поверю, что страх перед свекровью более сильное чувство, чем трагическое материнство.
Может, «Зулейха» демонстрирует «глубокое знание национального материала, любовь к своему народу <…> деликатное прикосновение к фольклору», как пишет в предисловии к роману Л. Улицкая? Тоже нет, татары страшно недовольны и перевиранием национальных реалий, и финалом романа, где Юзуф, взяв имя Иосифа Игнатова, отправляется служить советской стране.
Язык в «Зулейхе» беспомощный, то топорно-простой («Игнатов берет с подноса тарелку. Полипьев смиренно вытягивает руки по швам»), то нуждающийся в костылях и скобках: «И бесшумное, по-лакейски услужливое скольжение двери (вправо-влево, вправо-влево…), и щегольские фестончатые занавески в тонкую, еле заметную полоску (положим, с открытыми окнами — никак, но рюшечки-то зачем?), и безукоризненно чистое большое зеркало над объемистой воронкой рукомойника (смотрелся в него только по необходимости — утром, когда брился»). Его слабость пытались объяснить сценарной техникой. Но сама по себе сценарная техника не плоха. У нее много приемов (смена ракурсов, общих и крупных планов, лаконизм, ремарки), которые можно чередовать с поэтической выразительностью, но Яхину попытка перейти от конспекта к художественной речи заводит в дремучую сентиментальность: «Убийца мужа смотрел на нее взглядом мужа — и она превращалась в мед. От этого становилось мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно. Словно весь ее стыд, прошлый и настоящий, слился воедино, вобрал в себя все, за что недостыдилась в этот безумный год <…> полог задергивался — все плотское, стыдное, некрасивое оставалось там, внутри. Зулейха вскакивала на большого аргамака и, крепко сжимая его босыми пятками, уносилась прочь не оборачиваясь».
В девяностые было много книжек с блондинками на обложках, героини которых изъяснялись так же: это было мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно, но когда он пронзил ее своим 15-сантиметровым копьем, весь ее стыд, прошлый и настоящий, слил воедино все плотское, стыдное, некрасивое, и она, превратившись в мед, крепко сжала его босыми пятками, уносясь прочь, как на большом аргамаке.
Есть в «Зулейхе» один живой образ — противоборство с урманом и голодом, но, во-первых, одного образа на роман мало, а, во-вторых, читатели могли и без него обойтись (и обошлись — в «Детях моих»). Привлекает их, как выяснилось, исключительно сентиментальность: «Пробирает до мурашек по позвоночному столбу и выжимает слезу», «В каждой главе боль, надрыв, переживания», «Очень трогательно и по-домашнему как-то».
«Зулейха» — сентиментальный роман с ароматом исторической травмы. Без приключений языка, без духа времени — литература жанра под прикрытием большой истории.
Ее феноменальная популярность подтверждает, что самое интересное происходит сейчас на стыке большой литературы и жанровой. И пока вызревает высокая проза, на разогреве работают аниматоры. У Урана и Геи тоже не сразу рождались титаны, сначала получались сторукие и циклопы.
Так книги Улицкой отражают атмосферу слабости личности перед махиной государства. Толпа и давка — частые образы в беллетристике того времени: Л. Улицкая — «Казус Кукоцкого», «Зеленый шатер», Б. Васильев — «Утоли моя печали», Б. Акунин — «Коронация». Поколение Улицкой, не верящее ни в бога, ни в черта, ни в Советский Союз, тем не менее верило в общую справедливость. И Улицкая создала альтернативный образ справедливости и порядка: лестницу рода.
Маринина — бытописатель 1990-х. Ее романы о Каменской — сага отчаянных временен, где деньги — у. е., сахар — роскошь, а смерть — обыденность. И речь идет уже не об общем порядке, а о сохранении представлений о добре и зле. Нынешнему поколению мир Марининой непонятен, как и романы Улицкой, похожие на сплетение темных венозных жил.
Зато жанровая литература с ее простыми общечеловеческими схемами не привязана к шуму времен. И «Зулейха» не привязана тоже. В ней нет попытки понять современность, объяснить историю. Травма Х Х века без всякого ущерба здесь может быть заменена травмой монголо-татарского ига или эпидемией чумы. «Ни автор, ни текст не задумываются о том, почему произошла коллективизация, какие причины ее вызвали, какой исторический смысл она несла. Никакой логики, никаких причин. Просто страшная катастрофа». Сборная модель сентиментального романа: честная девушка, злой муж, ведьма-свекровь, добрый доктор и романтический враг в декорациях какой-то катастрофы.
Нет здесь и психологического обоснования: тридцатилетняя героиня тайком носит на могилы дочерей пастилу и страшно боится свекрови. Никогда не поверю, что страх перед свекровью более сильное чувство, чем трагическое материнство.
Может, «Зулейха» демонстрирует «глубокое знание национального материала, любовь к своему народу <…> деликатное прикосновение к фольклору», как пишет в предисловии к роману Л. Улицкая? Тоже нет, татары страшно недовольны и перевиранием национальных реалий, и финалом романа, где Юзуф, взяв имя Иосифа Игнатова, отправляется служить советской стране.
Язык в «Зулейхе» беспомощный, то топорно-простой («Игнатов берет с подноса тарелку. Полипьев смиренно вытягивает руки по швам»), то нуждающийся в костылях и скобках: «И бесшумное, по-лакейски услужливое скольжение двери (вправо-влево, вправо-влево…), и щегольские фестончатые занавески в тонкую, еле заметную полоску (положим, с открытыми окнами — никак, но рюшечки-то зачем?), и безукоризненно чистое большое зеркало над объемистой воронкой рукомойника (смотрелся в него только по необходимости — утром, когда брился»). Его слабость пытались объяснить сценарной техникой. Но сама по себе сценарная техника не плоха. У нее много приемов (смена ракурсов, общих и крупных планов, лаконизм, ремарки), которые можно чередовать с поэтической выразительностью, но Яхину попытка перейти от конспекта к художественной речи заводит в дремучую сентиментальность: «Убийца мужа смотрел на нее взглядом мужа — и она превращалась в мед. От этого становилось мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно. Словно весь ее стыд, прошлый и настоящий, слился воедино, вобрал в себя все, за что недостыдилась в этот безумный год <…> полог задергивался — все плотское, стыдное, некрасивое оставалось там, внутри. Зулейха вскакивала на большого аргамака и, крепко сжимая его босыми пятками, уносилась прочь не оборачиваясь».
В девяностые было много книжек с блондинками на обложках, героини которых изъяснялись так же: это было мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно, но когда он пронзил ее своим 15-сантиметровым копьем, весь ее стыд, прошлый и настоящий, слил воедино все плотское, стыдное, некрасивое, и она, превратившись в мед, крепко сжала его босыми пятками, уносясь прочь, как на большом аргамаке.
Есть в «Зулейхе» один живой образ — противоборство с урманом и голодом, но, во-первых, одного образа на роман мало, а, во-вторых, читатели могли и без него обойтись (и обошлись — в «Детях моих»). Привлекает их, как выяснилось, исключительно сентиментальность: «Пробирает до мурашек по позвоночному столбу и выжимает слезу», «В каждой главе боль, надрыв, переживания», «Очень трогательно и по-домашнему как-то».
«Зулейха» — сентиментальный роман с ароматом исторической травмы. Без приключений языка, без духа времени — литература жанра под прикрытием большой истории.
Ее феноменальная популярность подтверждает, что самое интересное происходит сейчас на стыке большой литературы и жанровой. И пока вызревает высокая проза, на разогреве работают аниматоры. У Урана и Геи тоже не сразу рождались титаны, сначала получались сторукие и циклопы.
Л. Улицкая. Любовь и нежность в аду // Г. Яхина. Зулейха открывает глаза. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. С. 3.
Отзывы читателей на «ЛитРес». Дата обращения: 20.08.2019.
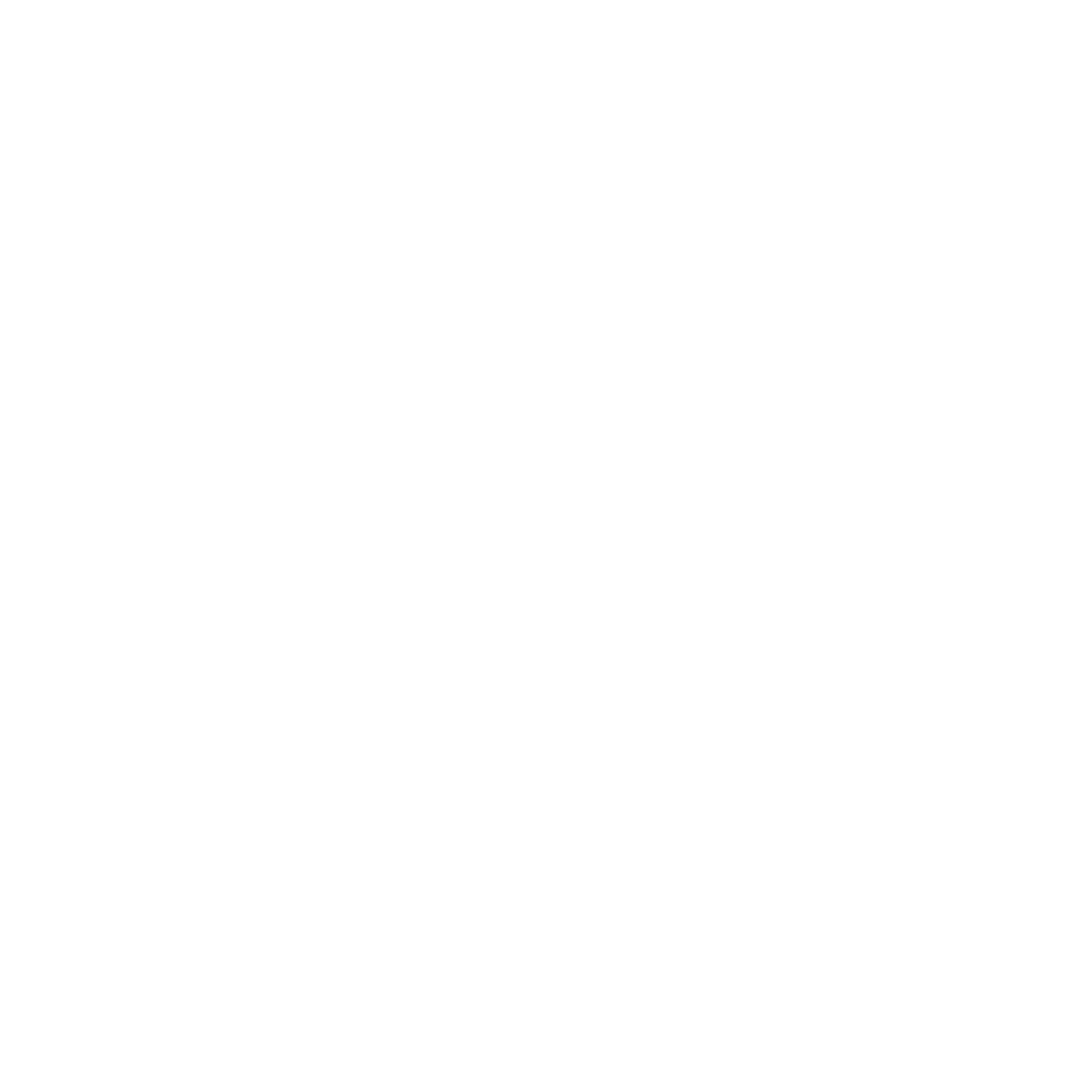
Сергей Морозов
Книги о себе и своей жизни. Непридуманные истории. Документы. Вот куда идет литература. Все сюжеты перебраны. Выдумка надоела и читателям, и писателям — уверяют нас со всех сторон.
В век славословий в пользу документальности, нон-фикшн хочется заступиться за художественную литературу. Правда, действуя при этом от противного, — размышляя над тем, что в действительности стоит за тягой к фактографии.
Фетишизм документальности тем удивителен, что за ним скрывается не столько стремление к правдоподобию и точности, сколько нежелание впрягаться в привычную творческую телегу. Проще микшировать, нежели сочинять, фиксировать, а не анализировать, делиться собственными впечатлениями, а не разбираться, как оно все на самом деле. Нынешний «документ» обращен не столько вовне, сколько вовнутрь себя. Это даже не фото, а блогерская запись.
В век славословий в пользу документальности, нон-фикшн хочется заступиться за художественную литературу. Правда, действуя при этом от противного, — размышляя над тем, что в действительности стоит за тягой к фактографии.
Фетишизм документальности тем удивителен, что за ним скрывается не столько стремление к правдоподобию и точности, сколько нежелание впрягаться в привычную творческую телегу. Проще микшировать, нежели сочинять, фиксировать, а не анализировать, делиться собственными впечатлениями, а не разбираться, как оно все на самом деле. Нынешний «документ» обращен не столько вовне, сколько вовнутрь себя. Это даже не фото, а блогерская запись.
Сейчас, когда новости — это фейк, когда их задача — манипулировать, а не информировать, можно ли ждать иного от «документальной» прозы? Вместо честной фантазии — фиктивная реальность, выдаваемая за истину. Да и сам автор-«документалист», насколько он адекватен? Или мы должны принимать все на веру? Истина нынче понятие пустое и никчемное, а потому отправной оценкой «документальности» становится ощущение, воспоминание, оценка. Вымысел оставляет пространство для истины, документализм — нет. Чем меньше мы стали фантазировать, тем более стали неадекватны.
«Дайте человеку маску, и он скажет правду», — говорил некогда Оскар Уайльд. Все изменилось. Правда вряд ли нужна, хотя ее значимость на словах сохраняется. Видимость правды дает право на творчество и признание. Правда становится формой сокрытия лжи, документальность — индульгенцией на выдумку. Такого откровенного навязывания вымышленного не существовало дотоле никогда. Художественная литература, в силу декларируемой приблизительности, воспринималась как совершенно свободная, необязательная форма представления о реальности. А тут, куда деваться, — чистая правда, разве возразишь?
Свободное поле фантазии подменили свидетельскими показаниями. Отсюда ощущение узости, спертости, мелкотравчатости. Характерный поворот головы: новая «литература факта» смотрит назад, имеет мемуарный характер. Почти всегда «воспоминания и размышления». Какая тут перспектива, где здесь созидание? Здесь нет и не должно быть вдохновляющих идей. Вместо них тонкие замечания с призвуком глубокомысленности. Я — это главное. Мир, Другой — да кому до них есть дело?
Но столько «я» мне не надо. Зачем? Однако настройка читателя на торжество субъективности опыта срабатывает. У меня есть собственный. Для чего мне чужой?
Это литература, которая умерщвляет читателя. Путь в никуда, к нечтению. С другой стороны, она плодит авторов. «У меня тоже есть голос», тоже есть опыт. Количество «документов» растет, литература забюрокрачивается.
«Дайте человеку маску, и он скажет правду», — говорил некогда Оскар Уайльд. Все изменилось. Правда вряд ли нужна, хотя ее значимость на словах сохраняется. Видимость правды дает право на творчество и признание. Правда становится формой сокрытия лжи, документальность — индульгенцией на выдумку. Такого откровенного навязывания вымышленного не существовало дотоле никогда. Художественная литература, в силу декларируемой приблизительности, воспринималась как совершенно свободная, необязательная форма представления о реальности. А тут, куда деваться, — чистая правда, разве возразишь?
Свободное поле фантазии подменили свидетельскими показаниями. Отсюда ощущение узости, спертости, мелкотравчатости. Характерный поворот головы: новая «литература факта» смотрит назад, имеет мемуарный характер. Почти всегда «воспоминания и размышления». Какая тут перспектива, где здесь созидание? Здесь нет и не должно быть вдохновляющих идей. Вместо них тонкие замечания с призвуком глубокомысленности. Я — это главное. Мир, Другой — да кому до них есть дело?
Но столько «я» мне не надо. Зачем? Однако настройка читателя на торжество субъективности опыта срабатывает. У меня есть собственный. Для чего мне чужой?
Это литература, которая умерщвляет читателя. Путь в никуда, к нечтению. С другой стороны, она плодит авторов. «У меня тоже есть голос», тоже есть опыт. Количество «документов» растет, литература забюрокрачивается.
В центре такой прозы не маленький, а мелкий человек с его сиюминутными заботами. Нельзя сказать, что это не нужно или совсем не интересно.
Но в «документальном» повествовании ничтожное раздувается до космических масштабов. За вниманием к деталям и моменту стоит отказ от иерархии восприятия, переход к упоению «маленькой жизнью».
Писатели-«документалисты» обожают туризм (езда на трамваях, посещение провинциальных городов, «этнографические очерки»). На первом плане сиюминутность отклика, текст как одноразовая салфетка. Вневременность, типичность, обобщение — меркнут перед смакованием частностей. Мироздание разбито на осколки, бессвязность рулит. Социология, психология — все это архаика. «Документальная» проза обслуживает авторский эгоцентризм и ничего кроме.
Как прием, документальность нормально встраивается в художественный текст. Обратное не работает. Всякая попытка прибегнуть к арсеналу художественной прозы размывает ядро документальности: прозорливый читатель видит, как обычный выдуманный рассказ маскируется под правду и недоумевает, для чего это нужно было делать.
«Документальная» проза тяготеет к волюнтаризму, навязыванию авторского «я», тенденциозности. Художественный текст обычно оставляет место и пространство для истолкований, он апеллирует к свободе прочтения. Поэтому далее возможны и критика, и полемика вокруг него. Всегда можно продолжить авторскую мысль или вступить в диалог с ней художественным способом. «Документальная» проза этого не предусматривает. Атомарная, замкнутая на себе литература. Однозначная, не требующая никакого продолжения, набор одиноких миров. Можно описывать сходный опыт, но он окажется индивидуальным и невоспроизводимым. Поэтому любое обсуждение превращается в обсуждение автора, а не высказывания.
Текст здесь — заменитель опыта, который читатель не может или не хочет прожить сам. Требуется не активность, а, напротив, пассивное восприятие. Следует внимать, а не интерпретировать, соглашаться, а не спорить. «Документальная» проза имеет тоталитарные замашки, — она требует не собеседника, а паству, готовую принять и разделить единственно верное учение, заключенное в тексте.
Документальная проза по природе своей имморальна. Она нарушает старые этические и этикетные принципы (хрестоматийное предупреждение о вымышленности героев и событий), бравирует своей «откровенностью». По сути это желтая литературная пресса, апеллирующая к нездоровой сенсационности и желанию покопаться в грязном белье. При этом рассказ о собственном опыте — это всегда его оправдание, апологетика.
Кто-то приписывает документальности особого рода исповедальность, откровенность. Что ж, наличие особости, несомненно. Но интимность в режиме «наедине со всеми» превращается в игру, в пантомиму. Интимное существует только как нечто публичное, трансформируется в инструмент достижения популярности, средство навязывания, давления. Что ж, таков дух современной эпохи.
Писатели-«документалисты» обожают туризм (езда на трамваях, посещение провинциальных городов, «этнографические очерки»). На первом плане сиюминутность отклика, текст как одноразовая салфетка. Вневременность, типичность, обобщение — меркнут перед смакованием частностей. Мироздание разбито на осколки, бессвязность рулит. Социология, психология — все это архаика. «Документальная» проза обслуживает авторский эгоцентризм и ничего кроме.
Как прием, документальность нормально встраивается в художественный текст. Обратное не работает. Всякая попытка прибегнуть к арсеналу художественной прозы размывает ядро документальности: прозорливый читатель видит, как обычный выдуманный рассказ маскируется под правду и недоумевает, для чего это нужно было делать.
«Документальная» проза тяготеет к волюнтаризму, навязыванию авторского «я», тенденциозности. Художественный текст обычно оставляет место и пространство для истолкований, он апеллирует к свободе прочтения. Поэтому далее возможны и критика, и полемика вокруг него. Всегда можно продолжить авторскую мысль или вступить в диалог с ней художественным способом. «Документальная» проза этого не предусматривает. Атомарная, замкнутая на себе литература. Однозначная, не требующая никакого продолжения, набор одиноких миров. Можно описывать сходный опыт, но он окажется индивидуальным и невоспроизводимым. Поэтому любое обсуждение превращается в обсуждение автора, а не высказывания.
Текст здесь — заменитель опыта, который читатель не может или не хочет прожить сам. Требуется не активность, а, напротив, пассивное восприятие. Следует внимать, а не интерпретировать, соглашаться, а не спорить. «Документальная» проза имеет тоталитарные замашки, — она требует не собеседника, а паству, готовую принять и разделить единственно верное учение, заключенное в тексте.
Документальная проза по природе своей имморальна. Она нарушает старые этические и этикетные принципы (хрестоматийное предупреждение о вымышленности героев и событий), бравирует своей «откровенностью». По сути это желтая литературная пресса, апеллирующая к нездоровой сенсационности и желанию покопаться в грязном белье. При этом рассказ о собственном опыте — это всегда его оправдание, апологетика.
Кто-то приписывает документальности особого рода исповедальность, откровенность. Что ж, наличие особости, несомненно. Но интимность в режиме «наедине со всеми» превращается в игру, в пантомиму. Интимное существует только как нечто публичное, трансформируется в инструмент достижения популярности, средство навязывания, давления. Что ж, таков дух современной эпохи.
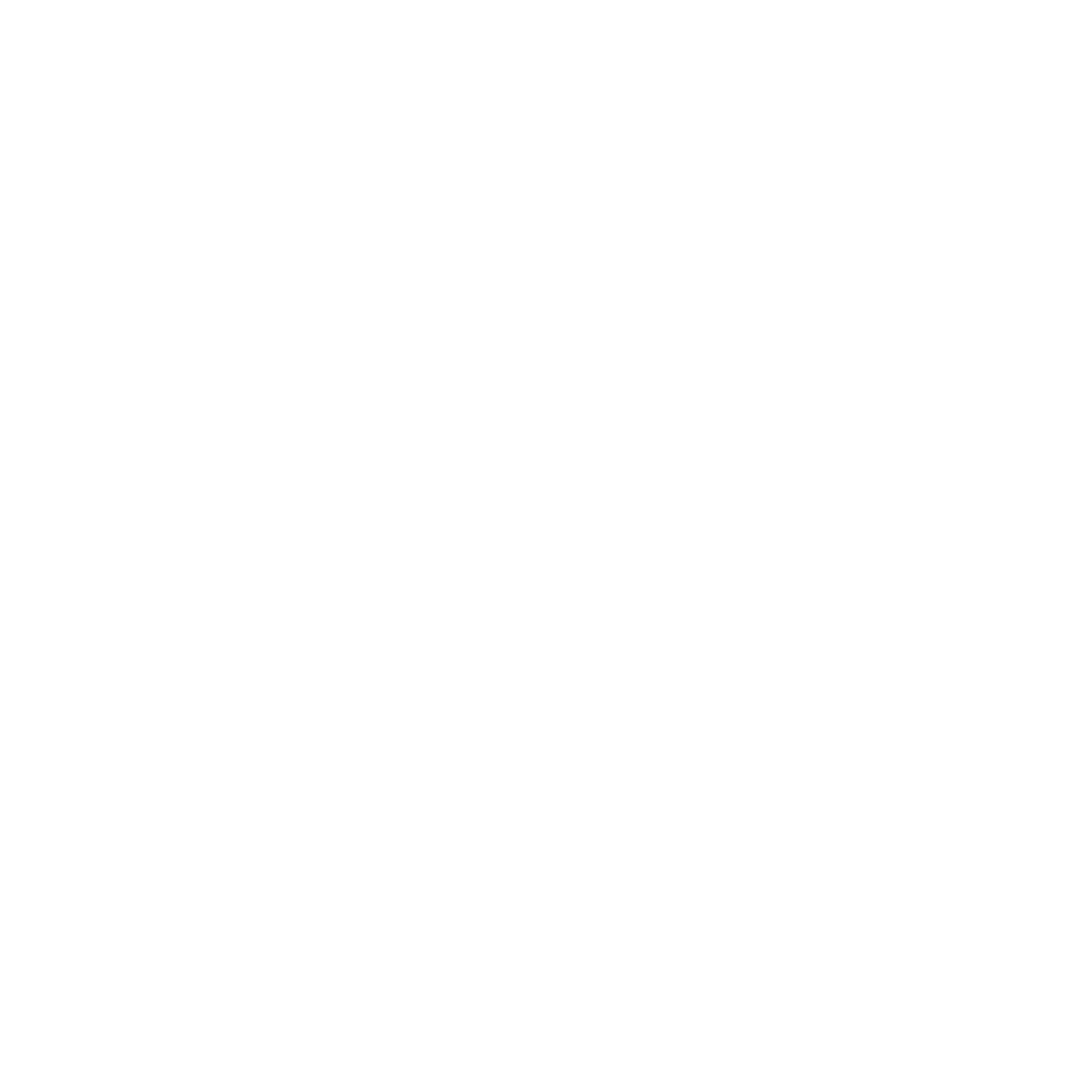
Андрей Пермяков
Каминаут: я не люблю фантастику, отдельно не люблю истории о попаданцах в параллельный мир, еще отдельней— о попаданцах в иное время, а полную неприязнь вызывают антиутопии. Про утопии не знаю: их в чистом виде не сочиняют давно. Ну, и вот: все перечисленное в разных пропорциях есть в новой повести Татьяны Бонч-Осмоловской «Сквозь слоистое стекло». Естественно, книга заинтересовала.
Уточним: перечисленные жанры представлены именно в повести, а не в мире, созданном этой повестью. С тем миром (вернее — мирами) все довольно занятно. В принципе, от автора этого следовало ожидать. Хронотоп, явленный нам на первых страницах, имеет прямые отсылки к предыдущим книгам Бонч-Осмоловской. В первую очередь надо вспомнить повесть «В плену запечатанных колб» и почти утопичных «Сиблингов». Темы иного обустройства России, смешения реального и виртуального, невозможность бескорыстного служения избранной идее, концепты альтернативной истории, взятые по отдельности, прямо скажем, не оригинальны. Но мы имеем дело с писателем состоявшимся, обладающим своеобразным взглядом на структуры бытия.
Уточним: перечисленные жанры представлены именно в повести, а не в мире, созданном этой повестью. С тем миром (вернее — мирами) все довольно занятно. В принципе, от автора этого следовало ожидать. Хронотоп, явленный нам на первых страницах, имеет прямые отсылки к предыдущим книгам Бонч-Осмоловской. В первую очередь надо вспомнить повесть «В плену запечатанных колб» и почти утопичных «Сиблингов». Темы иного обустройства России, смешения реального и виртуального, невозможность бескорыстного служения избранной идее, концепты альтернативной истории, взятые по отдельности, прямо скажем, не оригинальны. Но мы имеем дело с писателем состоявшимся, обладающим своеобразным взглядом на структуры бытия.
Киев: Каяла, ФОП РетiвовТетяна, 2019.
Обе упомянутые книги вышли под одной обложкой (Т. Бонч-Осмоловская. Развилка. М.: Фабула, 2017).
Если коротко, в наружном слое стекла сбылась мечта Миклухо-Маклая. Русские основали колонию южнее экватора. Почему-то не в Новой Гвинее, а в Австралии. Куда-то пропали аборигены: сепаратисты-буддисты есть, а местных племен нет. Но вообще устроились неплохо. Вот главный герой, Антон, правит доклад к юбилею: «В Югороссии установился новый общественный строй — земля и все производства находились (находятся, поправил Антон) во всеобщей собственности и управляются ко всеобщему благу специально обученными и уполномоченными мастерами». Получился немарксистский коммунизм. Только с денежками, именуемыми тут «необами». Конечно, ждешь подвоха. Сначала — простого. Уж слишком идеальная вырисовывается картина: детей рожают в семнадцать, работают до девяноста. Хочешь — трудись на благо общества, не хочешь — занимайся архаичным частным извозом, за него неплохо платят. Общая малореальность и пластмассовость существования мерцает сразу. Как, к примеру, вовсе неидеальным выглядел мир будущего в комедии Маяковского «Клоп». И это только первая литературная ассоциация, вызываемая книгой.
Далее будут отсылки к роману «Остров Крым», к фильму «Матрица», к «Пене дней» Бориса Виана — почти цитата с цветком, выросшим в легких. Даже митьковская мифология вспомнится: из-за очень важного Икарушки в начале книги. Будут явлены Стругацкие — в первую очередь их «Отягощенные злом» и «Обитаемый остров», но не только. Айзека Азимова много. Причем автор аккуратно, но явно дает понять, что отсылки эти весьма неслучайны. Это мы перечислили только самые явные ассоциации, ведущие в наиболее очевидные литературные вселенные.
Но книга длится, а мир не рушится. Начинаешь думать, что происходящее — продукт внешнего эксперимента: окружающие страны придумали для соседей искусственный мирок, и наслаждаются. Тоже неверно. Далее мысль недоверчивого читателя сворачивает в сторону того, что все происходит сугубо в голове некой дамы, повествование о довольно странных приключениях которой идет пунктиром сквозь всю книгу, перемежая основное действие. Тем более эта дама из основного повествования выпала, и многое в сюжете завязано на ее поисках. Однако это слишком простой вариант.
Затем становится теплее. Оказывается, несколько десятилетий назад идеальная русская колония на юге совершила дивный технологический рывок.
Далее будут отсылки к роману «Остров Крым», к фильму «Матрица», к «Пене дней» Бориса Виана — почти цитата с цветком, выросшим в легких. Даже митьковская мифология вспомнится: из-за очень важного Икарушки в начале книги. Будут явлены Стругацкие — в первую очередь их «Отягощенные злом» и «Обитаемый остров», но не только. Айзека Азимова много. Причем автор аккуратно, но явно дает понять, что отсылки эти весьма неслучайны. Это мы перечислили только самые явные ассоциации, ведущие в наиболее очевидные литературные вселенные.
Но книга длится, а мир не рушится. Начинаешь думать, что происходящее — продукт внешнего эксперимента: окружающие страны придумали для соседей искусственный мирок, и наслаждаются. Тоже неверно. Далее мысль недоверчивого читателя сворачивает в сторону того, что все происходит сугубо в голове некой дамы, повествование о довольно странных приключениях которой идет пунктиром сквозь всю книгу, перемежая основное действие. Тем более эта дама из основного повествования выпала, и многое в сюжете завязано на ее поисках. Однако это слишком простой вариант.
Затем становится теплее. Оказывается, несколько десятилетий назад идеальная русская колония на юге совершила дивный технологический рывок.
Только был ли этот рывок в реальности? И вообще — где реальность спрятана? Ситуация похожа на морок, кем-то убедительно внушенный населению. Да и действия главного героя напоминают сон — не страшный, а муторный: идешь в сторону, противоположную необходимой, в результате каким-то макаром оказываешься там, где хотел, но результат появления в нужном месте разочаровывает.
Будучи не уверен в правоте собственной интерпретации, от явных подсказок воздержусь, но рекомендую обратить внимание на логическую головоломку, заданную Антону будущим начальником в четвертой главе. Финал книги весьма зависит от читательского решения этой задачки. Причем там даже не бинарный вариант: прав главный герой или нет. Соответственно, небинарен и финал: вот разве поведение героев в итоговых главах соответствует поведению трезвомыслящих людей в стандартном мире? Хотя, кажется, я уже начинаю выдавать подсказки, от чего зарекался.
Лучше скажу чуть о другом: мир книги действительно слоист. И слои перемешаны. Стало быть, есть не только несколько разных выходов-финалов, но и различные входы. К примеру, представленный утопический мир — это мир социальных сетей. Каждый персонаж имеет некий аналог встроенной открытой памяти, позволяющей рассказывать о себе встречным-поперечным. Или, соответственно, скрывать от них информацию. Опять-таки: все сугубо добровольно. Отщепенцы-кедрозвоны вольны жить в своих поселениях и всячески игнорировать новые технологии.
Но зато и расправиться с кем-либо, наделавшим глупостей, легче легкого: «Просто выключат и все» — такой приговор огласили Антону. Заметим: приговор вынесен за предполагаемую гибель другого персонажа. А тот решил исчезнуть, имитировав смерть. Это ведь лишь кажется, что выход из социальных сетей легок, как и жизнь в оных. Там друг на друга все крайне завязаны. Есть у буддистов понятие «пратитья-самутпада» — взаимно обусловленная причинность. Ты можешь быть очень хорошим, но деяния и намерения окружающих приковывают тебя к сансаре. Приходится «спать, черпая примеры из предыдущих сновидений», как формулировал выдающийся буддолог Е. Торчинов.
Однако, неверно сводить идею книги к восточным тонкостям — хотя буддийские сепаратисты помянуты в повести с умыслом. Философская нагрузка «Слоистого стекла» куда разнообразней. Скажем, цифровая личность героев — это ж самое настоящее тело без органов, описанное Делезом. И сами соцсети — явный продукт постмодерна. В том смысле, в каком ракетные технологии были продуктом русского космизма, а НТР — следствием рационалистических идей. А поскольку сети ныне очевидно побеждают все прочие виды активности и в некотором смысле сделались реальней «первой» реальности, то…
Разумеется, сказанное в нескольких предыдущих абзацах — лишь малая часть культурных аллюзий, вызываемых книгой Татьяны Бонч-Осмоловской. Мы тут кратко изложили всего лишь один подход к мирам этой повести. А подходов таких много. Жаль, книг подобных мало. Но эту фразу можно повторять из рецензии в рецензию. Долго-долго еще можно повторять.
Лучше скажу чуть о другом: мир книги действительно слоист. И слои перемешаны. Стало быть, есть не только несколько разных выходов-финалов, но и различные входы. К примеру, представленный утопический мир — это мир социальных сетей. Каждый персонаж имеет некий аналог встроенной открытой памяти, позволяющей рассказывать о себе встречным-поперечным. Или, соответственно, скрывать от них информацию. Опять-таки: все сугубо добровольно. Отщепенцы-кедрозвоны вольны жить в своих поселениях и всячески игнорировать новые технологии.
Но зато и расправиться с кем-либо, наделавшим глупостей, легче легкого: «Просто выключат и все» — такой приговор огласили Антону. Заметим: приговор вынесен за предполагаемую гибель другого персонажа. А тот решил исчезнуть, имитировав смерть. Это ведь лишь кажется, что выход из социальных сетей легок, как и жизнь в оных. Там друг на друга все крайне завязаны. Есть у буддистов понятие «пратитья-самутпада» — взаимно обусловленная причинность. Ты можешь быть очень хорошим, но деяния и намерения окружающих приковывают тебя к сансаре. Приходится «спать, черпая примеры из предыдущих сновидений», как формулировал выдающийся буддолог Е. Торчинов.
Однако, неверно сводить идею книги к восточным тонкостям — хотя буддийские сепаратисты помянуты в повести с умыслом. Философская нагрузка «Слоистого стекла» куда разнообразней. Скажем, цифровая личность героев — это ж самое настоящее тело без органов, описанное Делезом. И сами соцсети — явный продукт постмодерна. В том смысле, в каком ракетные технологии были продуктом русского космизма, а НТР — следствием рационалистических идей. А поскольку сети ныне очевидно побеждают все прочие виды активности и в некотором смысле сделались реальней «первой» реальности, то…
Разумеется, сказанное в нескольких предыдущих абзацах — лишь малая часть культурных аллюзий, вызываемых книгой Татьяны Бонч-Осмоловской. Мы тут кратко изложили всего лишь один подход к мирам этой повести. А подходов таких много. Жаль, книг подобных мало. Но эту фразу можно повторять из рецензии в рецензию. Долго-долго еще можно повторять.
Е. А. Торчинов. Философия буддизма Махаяны. С-Пб.: Санкт-Петербургское востоковедение. С. 164.
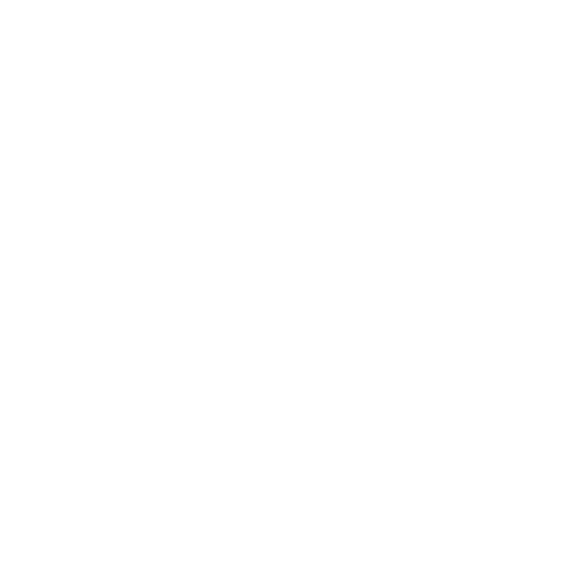
Станислав Секретов
Один из самых популярных жанров в современной русской литературе — плач. Да-да, плачи не остались в далеком прошлом — они живы. Может, вы и не найдете их в книгах нынешних поэтов и прозаиков, однако на страницах литераторов в социальных сетях плачи весьма популярны.
Стон стоит по всей Руси великой… Но плачут писатели отнюдь не о погибели родной земли или борьбе с захватчиками. Народные бедствия, болезни и неурожай тоже ни при чем.
Отправил автор свое произведение в редакцию толстого журнала, а ему отказали. И во втором, и в третьем. Разослал в десяток издательств — сплошной игнор. Все понятно: ничего-то не понимают эти горе-редактора в настоящей литературе, не способны разглядеть жемчужины в горах песка. Дураки, одним словом. Наверное, только своих печатают. И никому ваши толстые журналы не нужны. И никто их не читает. И в издательствах давно все куплено. Окончательно и бесповоротно.
Ступенька вверх.
Стон стоит по всей Руси великой… Но плачут писатели отнюдь не о погибели родной земли или борьбе с захватчиками. Народные бедствия, болезни и неурожай тоже ни при чем.
Отправил автор свое произведение в редакцию толстого журнала, а ему отказали. И во втором, и в третьем. Разослал в десяток издательств — сплошной игнор. Все понятно: ничего-то не понимают эти горе-редактора в настоящей литературе, не способны разглядеть жемчужины в горах песка. Дураки, одним словом. Наверное, только своих печатают. И никому ваши толстые журналы не нужны. И никто их не читает. И в издательствах давно все куплено. Окончательно и бесповоротно.
Ступенька вверх.
Напечатали мой рассказ (статью, рецензию, подборку стихотворений — нужное подчеркнуть) в толстом журнале. А почему не платят гонорары? А почему хвалят только друзья? А где отзывы благодарных читателей? А почему так мало лайков? Пора завязывать с литературой. Никому я не нужен. Жизнь кончена — пойду в водице утоплюсь.
Ступенька вверх.
У меня в «Журнальном зале» уже двадцать (тридцать, пятьдесят, сто — нужное подчеркнуть) публикаций. А где популярность? А почему мое имя знают только в узких кругах? А будет ли кому-то нужна моя книжка, если я ее все-таки издам? А почему так мало лайков? Пора завязывать с литературой. Никому я не нужен. Жизнь кончена — разбежавшись, прыгну со скалы.
Ступенька вверх.
Ребята, у меня книжка вышла! Книжка! Ура! Первая (вторая, третья, четвертая, пятая — нужное подчеркнуть) книжка. Лучшее, из того, что я написал на сегодняшний день. Книжка… А почему хвалят только друзья? А почему только хвалят, но не покупают? Ребята, вы чего? Вы друзья или как? А где номинация на «Большую книгу»? Вы там вообще в своем уме? Ну хоть на «Нацбест»? На «НОС»? На «Ясную Поляну»? Нет? А где отзывы благодарных читателей? А почему так мало лайков? Пора завязывать с литературой. Никому я не нужен. Жизнь кончена — пойду стучаться в двери травы.
«Поплакала — і стоп! Фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками…» Гонораров нет, но самотек в толстых журналах не иссякает. И написавший один рассказ (стихотворение, рецензию, статью) пишет второй (третий, четвертый, пятый и далее по списку). И продолжает слать депеши в издательства. И продолжает радоваться каждой книге, даже если покупают очень вяло и никуда не номинируют. И продолжается литературная жизнь…
Ступенька вверх.
У меня в «Журнальном зале» уже двадцать (тридцать, пятьдесят, сто — нужное подчеркнуть) публикаций. А где популярность? А почему мое имя знают только в узких кругах? А будет ли кому-то нужна моя книжка, если я ее все-таки издам? А почему так мало лайков? Пора завязывать с литературой. Никому я не нужен. Жизнь кончена — разбежавшись, прыгну со скалы.
Ступенька вверх.
Ребята, у меня книжка вышла! Книжка! Ура! Первая (вторая, третья, четвертая, пятая — нужное подчеркнуть) книжка. Лучшее, из того, что я написал на сегодняшний день. Книжка… А почему хвалят только друзья? А почему только хвалят, но не покупают? Ребята, вы чего? Вы друзья или как? А где номинация на «Большую книгу»? Вы там вообще в своем уме? Ну хоть на «Нацбест»? На «НОС»? На «Ясную Поляну»? Нет? А где отзывы благодарных читателей? А почему так мало лайков? Пора завязывать с литературой. Никому я не нужен. Жизнь кончена — пойду стучаться в двери травы.
«Поплакала — і стоп! Фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками…» Гонораров нет, но самотек в толстых журналах не иссякает. И написавший один рассказ (стихотворение, рецензию, статью) пишет второй (третий, четвертый, пятый и далее по списку). И продолжает слать депеши в издательства. И продолжает радоваться каждой книге, даже если покупают очень вяло и никуда не номинируют. И продолжается литературная жизнь…
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике