март 2019
Легкая кавалерия. Выпуск №3
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
Говорим дальше — и снова о разных интересных штуках: о покалывании шпагами-словечками вместо сечи палашами-идеями; о новом американо-британском сериале «Чернобыль»; о разнице между «лягушками в банке» и «любви к чтению» и Галине Юзефович; о писателях-роботах и о том, как роман, написанный роботом, попал в шорт-лист национальной премии; о статье И. Гулина «Что происходит с текстом» и мантии пророка, которую примерил критик; о проблеме подросткового чтения и поколении Z — тех, кто родился после 1996 года; а также о многом другом…
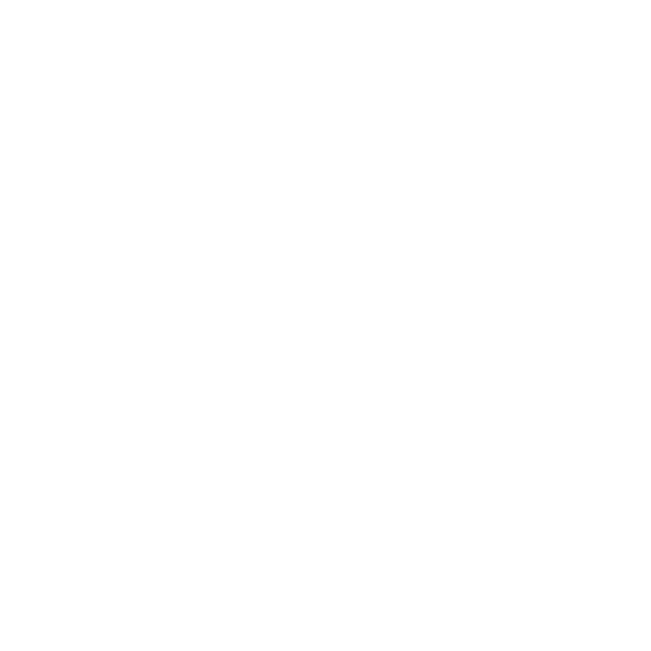
Роман Сенчин
Пикироваться, наверное, нам, кавалеристам, не стоит. Не для того, видимо, нас собрали вместе и бросили в некую атаку. Не друг на друга ведь? Но кое-что уточнить стоит.
В прошлом выпуске Станислав Секретов упрекнул меня в том, что я, в свою очередь, упрекаю критиков за молчание о прозе Анны Матвеевой. «Один я за последние пять лет написал пять рецензий на книги Матвеевой», — указывает Станислав, а затем перечисляет около двадцати фамилий тех, кто тоже заметил книги писательницы.
Далее Станислав спорит с моими высказываниями о том, что сегодня литературной критики у нас по существу нет. Опять же в виде контраргумента перечисляет журналы-интернет-порталы, которые «на литературной критике во многом держатся».
В прошлом выпуске Станислав Секретов упрекнул меня в том, что я, в свою очередь, упрекаю критиков за молчание о прозе Анны Матвеевой. «Один я за последние пять лет написал пять рецензий на книги Матвеевой», — указывает Станислав, а затем перечисляет около двадцати фамилий тех, кто тоже заметил книги писательницы.
Далее Станислав спорит с моими высказываниями о том, что сегодня литературной критики у нас по существу нет. Опять же в виде контраргумента перечисляет журналы-интернет-порталы, которые «на литературной критике во многом держатся».
С. Секретов. Что хотите со мной делайте… / Легкая кавалерия // Вопросы литературы. 2019. № 1.
Там же.
Извините, но сотни рецензий, десятки обзоров того, где что опубликовано назвать литературной критикой у меня не поворачивается язык. Это скорее литературная журналистика, а не критика.
Говорят, в Америке есть несколько человек, которые своими рецензиями на книги, спектакли, фильмы могут сделать авторам имя или же втоптать их навечно в грязь. Но в данном случае стоит пожалеть тех, кто настолько подпадает под влияние этих авторитетов. Несколько хлестких фраз, и людское море кивает: да, так оно и есть. И устраивает или суд Линча в виде бойкота и презрения, или сметает с полок книги, а из касс билеты.
Говорят, в Америке есть несколько человек, которые своими рецензиями на книги, спектакли, фильмы могут сделать авторам имя или же втоптать их навечно в грязь. Но в данном случае стоит пожалеть тех, кто настолько подпадает под влияние этих авторитетов. Несколько хлестких фраз, и людское море кивает: да, так оно и есть. И устраивает или суд Линча в виде бойкота и презрения, или сметает с полок книги, а из касс билеты.
В России критика шла другим путем — она была сродни философии, политическим, экономическим учениям.
Недаром Бердяев — и философ, и литературный критик. Плеханов, Троцкий, Луначарский — революционеры и в то же время литературные критики. Их предшественники — Белинский, Аполлон Григорьев, Добролюбов, Чернышевский, Писарев — тоже писали не столько о самих произведениях прозы, не о том, как они сделаны, а о том, что несут обществу, какую пользу или вред могут оказать.
То же касается и эстетических принципов, отстаиванием которых выливалось в настоящие литературные войны. Нынче этих войн нет. Лишь редкие и короткие перепалки между молодыми поэтами где-нибудь в соцсетях.
Сейчас подобного подхода к литературе я не вижу. В нулевые он возникал на несколько лет благодаря Валерии Пустовой, Андрею Рудалеву, Василине Орловой, Алисе Ганиевой, Сергею Белякову, еще нескольким тогда молодым и юным, но они это дело быстро оставили. Теперешние молодые и юные предпочитают по большей части или оценивать конкретную вещь — хороша она или плоха, или просто сообщают нам, что напечатано в том-то или том-то журнале, портале, сайте.
Эти оценки и сообщения интересны очень узкому кругу. Честно говоря, они интересны тем, кто оценивается и упоминается, да самим авторам публикации. Остальные если и откроют подобную рецензию или обзор, пробегут их наискосок и забудут.
То же касается и эстетических принципов, отстаиванием которых выливалось в настоящие литературные войны. Нынче этих войн нет. Лишь редкие и короткие перепалки между молодыми поэтами где-нибудь в соцсетях.
Сейчас подобного подхода к литературе я не вижу. В нулевые он возникал на несколько лет благодаря Валерии Пустовой, Андрею Рудалеву, Василине Орловой, Алисе Ганиевой, Сергею Белякову, еще нескольким тогда молодым и юным, но они это дело быстро оставили. Теперешние молодые и юные предпочитают по большей части или оценивать конкретную вещь — хороша она или плоха, или просто сообщают нам, что напечатано в том-то или том-то журнале, портале, сайте.
Эти оценки и сообщения интересны очень узкому кругу. Честно говоря, они интересны тем, кто оценивается и упоминается, да самим авторам публикации. Остальные если и откроют подобную рецензию или обзор, пробегут их наискосок и забудут.
Вообще то, что сейчас тот же Станислав Секретов считает критикой, является сплошной легкой кавалерией. Тяжелой у нас нет. Разве иногда кто-нибудь попробует надеть кирасу, оседлать дестриэ — написать большую, с идеей, статью, — но понимают: не под силу. А может, останавливают вопросы: кому это нужно? что это даст?
Вопросы справедливые. В общем-то, ими задается и Секретов в своем тексте. И даже приводит примеры того, что происходило с критиком и написанной им статьей в 1989, 2004 и 2019 годы. Да, так оно и есть. Я тоже стал больше говорить о деньгах — гонорары не видят не только критики, но и прозаики. О поэтах и говорить нечего. Не замечают — или же замечают этак мимоходом — не только хорошую статью, но и хороший роман, хорошие стихотворения.
Выход один: написать нечто такое, от чего содрогнутся — от ужаса или восхищения. Содрогание имеет цепную реакцию — сначала содрогнутся десятки читателей, потом сотни, а там, глядишь, и многие тысячи.
Беда в том, что все мы пишем слишком рассудочно, холодно, покалываем своими шпагами-словечками, а не рубим палашами-идеями. Идей, которые бы нас жгли и не давали быть уныло-спокойными, нет, вот в чем, по-моему, главная проблема.
Вопросы справедливые. В общем-то, ими задается и Секретов в своем тексте. И даже приводит примеры того, что происходило с критиком и написанной им статьей в 1989, 2004 и 2019 годы. Да, так оно и есть. Я тоже стал больше говорить о деньгах — гонорары не видят не только критики, но и прозаики. О поэтах и говорить нечего. Не замечают — или же замечают этак мимоходом — не только хорошую статью, но и хороший роман, хорошие стихотворения.
Выход один: написать нечто такое, от чего содрогнутся — от ужаса или восхищения. Содрогание имеет цепную реакцию — сначала содрогнутся десятки читателей, потом сотни, а там, глядишь, и многие тысячи.
Беда в том, что все мы пишем слишком рассудочно, холодно, покалываем своими шпагами-словечками, а не рубим палашами-идеями. Идей, которые бы нас жгли и не давали быть уныло-спокойными, нет, вот в чем, по-моему, главная проблема.
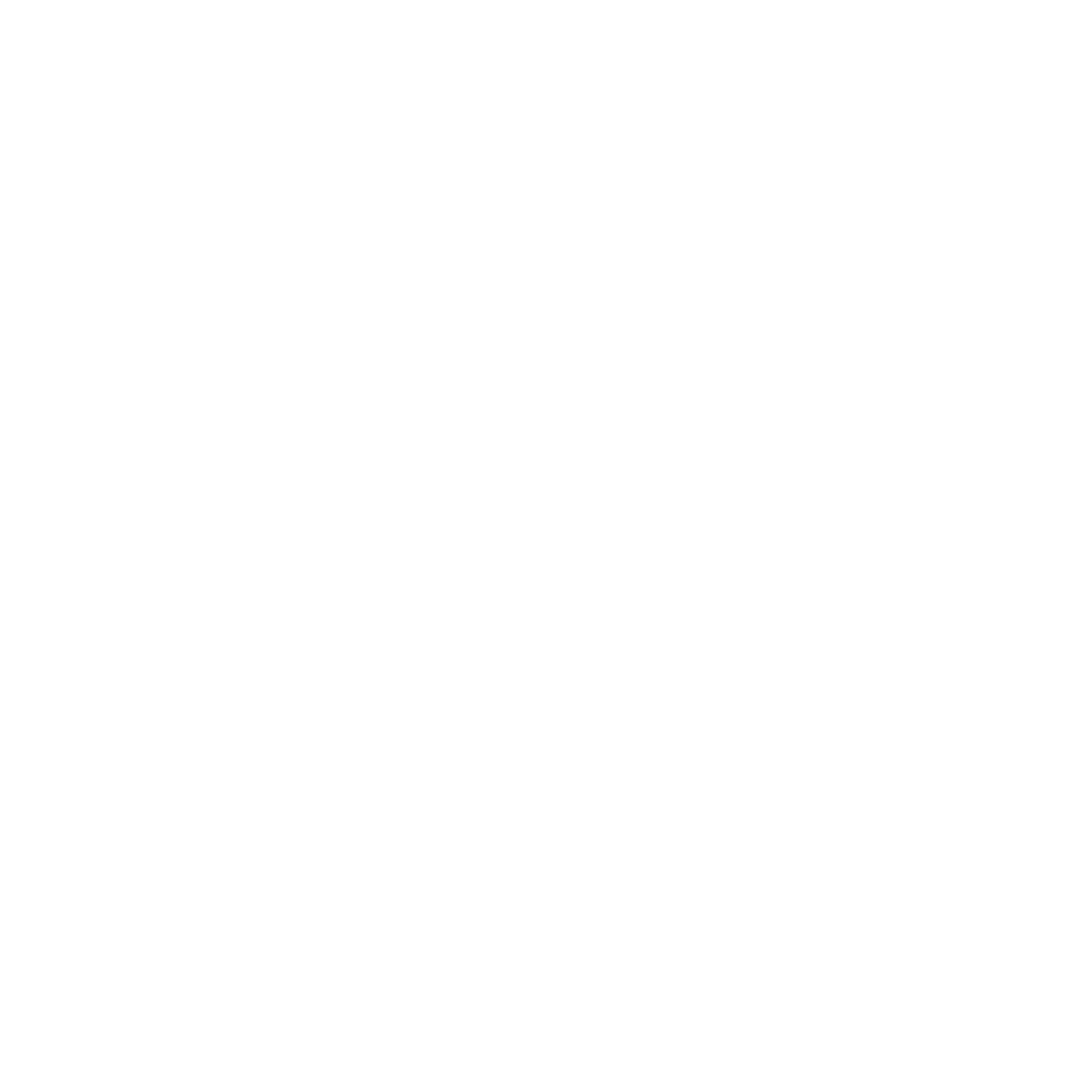
Сергей Морозов
Век так называемой книжной критики оказался недолог. Еще не так давно наблюдалось победное шествие рецензий и обзоров, а ныне «нивы сжаты, рощи голы», «мертвые с косами стоят» — осталось несколько площадок. Но и там рецензенты порой вынуждены оправдывать право на свое существование оригинальными способами (Наталья Кочеткова в «Ленте» («Lenta.ru». — Ред.) тем, что в книгах можно найти «клубничку», Наталья Ломыкина, в «Psychologies», что они о психологических проблемах и способах их преодоления).
Квелая, медленная, дышащая на ладан толстожурнальная критика, с запаздывающим на пару-тройку месяцев рецензированием книжных новинок, напротив, выстояла. Как такое могло случиться?
Квелая, медленная, дышащая на ладан толстожурнальная критика, с запаздывающим на пару-тройку месяцев рецензированием книжных новинок, напротив, выстояла. Как такое могло случиться?
Вроде бы, все логично. Литература — сфера специализации «толстяков». Тот, кого интересует огородничество, читает «Приусадебное хозяйство», а кого современная поэзия и проза — «Новый мир» или «Знамя».
Видимо, критики и рецензенты, обретшие славу и репутацию в Сети, рассудили так же, и бочком-бочком, один за другим, со спасательных сайтов-шлюпок, взялись перебираться обратно, на борт вечно тонущих литературных «Титаников». Татьяна Сохарева оказалась в «Знамени», Владислав Толстов в «Урале».
«Куда их гонит?»
Помимо элементарного объяснения «надо же хоть где-нибудь печататься», есть и другое возможное — сила привычки. «Толстяки» не только последний оплот, но и старый способ легитимации себя как критика и рецензента (критик — это тот, кто печатается в правильном издании).
Разве ж сайты — это фирма? «Нимфа» разве товар дает? У них и матерьял не тот, и отделка похуже. Логике мастера Безенчука возразить трудно. Даже количество просмотров, с легкостью превосходившее тираж любого «толстяка», общего мнения не меняло. Книжная критика — не то второй сорт, не то вовсе не критика.
Видимо, критики и рецензенты, обретшие славу и репутацию в Сети, рассудили так же, и бочком-бочком, один за другим, со спасательных сайтов-шлюпок, взялись перебираться обратно, на борт вечно тонущих литературных «Титаников». Татьяна Сохарева оказалась в «Знамени», Владислав Толстов в «Урале».
«Куда их гонит?»
Помимо элементарного объяснения «надо же хоть где-нибудь печататься», есть и другое возможное — сила привычки. «Толстяки» не только последний оплот, но и старый способ легитимации себя как критика и рецензента (критик — это тот, кто печатается в правильном издании).
Разве ж сайты — это фирма? «Нимфа» разве товар дает? У них и матерьял не тот, и отделка похуже. Логике мастера Безенчука возразить трудно. Даже количество просмотров, с легкостью превосходившее тираж любого «толстяка», общего мнения не меняло. Книжная критика — не то второй сорт, не то вовсе не критика.
Определенная правота в такого рода суждении есть. В книжной критике изначально имелось два близкородственных изъяна — склонность к пиару и общей позитивной интонации. Потому она оказалась неверно воспринята многими, рассматриваясь как форма рекламы и продвижения товара.
При этом само понимание того, что текст имеет не только чисто литературное, художественное, но и потребительское измерение, в книжной критике было верным. Текст — это товар, а читатель — потребитель, который выбирает книгу не из любви к чистому искусству, а в целях вполне прагматичных — скрасить досуг. Ему вполне естественно интересно знать, что следует ожидать от книги, стоит ли она денег и усилий.
С этой точки зрения книжный обзор или рецензия по своему характеру не слишком должны были отличаться от обзора стиральных машин, смартфонов или видеоигр. Рецензент должен был обращать внимание не только на абстрактную литературную ценность, но и на характеристики, значимые для потребителя. То есть пытаться не впадать, с одной стороны, в глубины литературоведения, с другой — избегать скатывания в обзор субъективных впечатлений или откровенную рекламу. Последнее, однако, с книжной критикой в итоге и случилось. А раз так, то чем короче, емче будет сказано, тем лучше.
При этом само понимание того, что текст имеет не только чисто литературное, художественное, но и потребительское измерение, в книжной критике было верным. Текст — это товар, а читатель — потребитель, который выбирает книгу не из любви к чистому искусству, а в целях вполне прагматичных — скрасить досуг. Ему вполне естественно интересно знать, что следует ожидать от книги, стоит ли она денег и усилий.
С этой точки зрения книжный обзор или рецензия по своему характеру не слишком должны были отличаться от обзора стиральных машин, смартфонов или видеоигр. Рецензент должен был обращать внимание не только на абстрактную литературную ценность, но и на характеристики, значимые для потребителя. То есть пытаться не впадать, с одной стороны, в глубины литературоведения, с другой — избегать скатывания в обзор субъективных впечатлений или откровенную рекламу. Последнее, однако, с книжной критикой в итоге и случилось. А раз так, то чем короче, емче будет сказано, тем лучше.
В итоге довольно объемные некогда материалы усохли до нескольких жалких абзацев.
Издательства в подобной ситуации закономерно рассудили, что аннотации можно публиковать самим, это менее хлопотно, и взялись пиарить себя, не отходя от кассы, на собственных сайтах под вывесками «блог» или «журнал». Последним писком моды стала колонка редактора издательства «Эксмо» Юлии Селивановой в интернет-магазине «Лабиринт». И хотя она назвала ее своим возвращением в критику, вполне очевидно, что вряд ли она будет сечь саму себя за выпускаемую продукцию. Круг замкнулся.
Подход «смотри, что я нашел» был также изначально неверен. Он не соответствовал критическому формату как таковому. Ведь задача критика — оценивать поток книг как есть, а не выковыривать изюм из булок, чтобы потом у публики складывалось ложное впечатление, что мы живем в эпоху побед и свершений. Рецензент должен был осуществлять своеобразный тест-драйв любого произвольно вытянутого из потока текста, исходя из установки, что «все черненькие, все прыгают».
Однобокий позитив все обессмыслил. Если практически любая выходящая из печати книга хороша, то зачем нужен обстоятельный разговор о ней? Бери, не глядя. Описание, разбор, анализ (по сути, знакомство с товаром) — единственное, что оправдывало существование книжной критики, стало излишним на фоне погружения «критика» в пучину собственного восторга и хвастовства этим состоянием перед читателем.
Избавившись от литературоведческого наукообразия, книжная критика выкинула вслед и всякую рациональность, апеллируя исключительно к эмоциональной сфере, сосредоточившись на раздражении рецепторов. Процесс чтения начали подавать как получение непрерывного кайфа, а рассказ о книгах стал смахивать на предложение «вмазать» от завзятого наркодилера.
Понятное дело, что вранье со временем вскрылось. Никакого кайфа, только получение прибыли. Авторитет оказался подорван. Опять же, оказалось, что удовольствие, раз уж оно встало во главу угла, можно получать и другими способами.
Так книжная критика не только перестала быть критикой, но и стала работать против, а не в пользу чтения, логично подойдя к самоупразднению.
Однако нынешний возврат в толстожурнальное стойло трудно оценить позитивно. Толстые журналы, сами сидящие на искусственном финансовом аппарате дыхания, пребывают в каком-то иллюзорном райском состоянии дотоварного производства. Читатели им не нужны. Тексты, в том числе критические, производятся для нужд внутреннего пользования. Мало того, что журналы исповедуют довольно узкое представление о литературе, они не особо стремятся к рассказу о своем излюбленном сегменте широкому кругу читателей. Если книжная критика попала в ловушку пиара и изменила своей природе в плане объективности и рациональности, то толстожурнальная демонстрирует принципиальную неадекватность, безразличие к тому, что творится за околицей.
Тем не менее, закат книжной критики — показатель натуральности этого явления, которое сошло на нет по вполне объяснимым причинам (концептуальные ошибки, нехватка площадок, отсутствие нормальных рыночных механизмов, потребителя, адресата). А вот продолжение существования критики в толстожурнальном виде нельзя определить иначе как противоестественное. Перед нами изоляционистский вектор ее развития. И это не позитив.
Поэтому будущее не за ним. Но и не за получившими ныне распространение эрзац-критическими, несоответствующими книжной природе («танцевать об архитектуре») форматами видеоблога и подкаста.
Многие думают, что критика перемещается в блоги, понимая при этом блог, как некий аналог легитимирующего издания, то есть, продолжая мыслить категорией «места», а не человека в противовес известной пословице о том, что человек красит место, а не наоборот. Это неверно.
Впрочем, также ошибочно было бы ожидать, что мы перейдем к персональным критическим проектам. Личность перестала быть интересна.
Единицей измерения критики постепенно становится текст. Персонально-диктаторское начало в критике ослабевает. Тексты станут обитать где-то в Сети, а единственным способом их агрегации будет искусственный список, сгенерированный поисковиком в ответ на запрос пользователя. Их авторство перестанет иметь какое бы то ни было значение.
К такому дивному, безличному, анонимному новому миру критики мы, по всей видимости, движемся.
Подход «смотри, что я нашел» был также изначально неверен. Он не соответствовал критическому формату как таковому. Ведь задача критика — оценивать поток книг как есть, а не выковыривать изюм из булок, чтобы потом у публики складывалось ложное впечатление, что мы живем в эпоху побед и свершений. Рецензент должен был осуществлять своеобразный тест-драйв любого произвольно вытянутого из потока текста, исходя из установки, что «все черненькие, все прыгают».
Однобокий позитив все обессмыслил. Если практически любая выходящая из печати книга хороша, то зачем нужен обстоятельный разговор о ней? Бери, не глядя. Описание, разбор, анализ (по сути, знакомство с товаром) — единственное, что оправдывало существование книжной критики, стало излишним на фоне погружения «критика» в пучину собственного восторга и хвастовства этим состоянием перед читателем.
Избавившись от литературоведческого наукообразия, книжная критика выкинула вслед и всякую рациональность, апеллируя исключительно к эмоциональной сфере, сосредоточившись на раздражении рецепторов. Процесс чтения начали подавать как получение непрерывного кайфа, а рассказ о книгах стал смахивать на предложение «вмазать» от завзятого наркодилера.
Понятное дело, что вранье со временем вскрылось. Никакого кайфа, только получение прибыли. Авторитет оказался подорван. Опять же, оказалось, что удовольствие, раз уж оно встало во главу угла, можно получать и другими способами.
Так книжная критика не только перестала быть критикой, но и стала работать против, а не в пользу чтения, логично подойдя к самоупразднению.
Однако нынешний возврат в толстожурнальное стойло трудно оценить позитивно. Толстые журналы, сами сидящие на искусственном финансовом аппарате дыхания, пребывают в каком-то иллюзорном райском состоянии дотоварного производства. Читатели им не нужны. Тексты, в том числе критические, производятся для нужд внутреннего пользования. Мало того, что журналы исповедуют довольно узкое представление о литературе, они не особо стремятся к рассказу о своем излюбленном сегменте широкому кругу читателей. Если книжная критика попала в ловушку пиара и изменила своей природе в плане объективности и рациональности, то толстожурнальная демонстрирует принципиальную неадекватность, безразличие к тому, что творится за околицей.
Тем не менее, закат книжной критики — показатель натуральности этого явления, которое сошло на нет по вполне объяснимым причинам (концептуальные ошибки, нехватка площадок, отсутствие нормальных рыночных механизмов, потребителя, адресата). А вот продолжение существования критики в толстожурнальном виде нельзя определить иначе как противоестественное. Перед нами изоляционистский вектор ее развития. И это не позитив.
Поэтому будущее не за ним. Но и не за получившими ныне распространение эрзац-критическими, несоответствующими книжной природе («танцевать об архитектуре») форматами видеоблога и подкаста.
Многие думают, что критика перемещается в блоги, понимая при этом блог, как некий аналог легитимирующего издания, то есть, продолжая мыслить категорией «места», а не человека в противовес известной пословице о том, что человек красит место, а не наоборот. Это неверно.
Впрочем, также ошибочно было бы ожидать, что мы перейдем к персональным критическим проектам. Личность перестала быть интересна.
Единицей измерения критики постепенно становится текст. Персонально-диктаторское начало в критике ослабевает. Тексты станут обитать где-то в Сети, а единственным способом их агрегации будет искусственный список, сгенерированный поисковиком в ответ на запрос пользователя. Их авторство перестанет иметь какое бы то ни было значение.
К такому дивному, безличному, анонимному новому миру критики мы, по всей видимости, движемся.
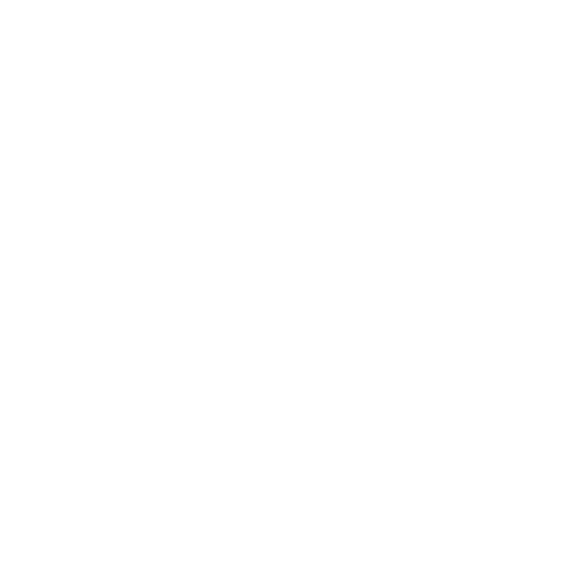
Станислав Секретов
«В некотором царстве, в некотором государстве сел Иван Царевич на коня и поскакал: тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык…» А дальше — еще 160 страниц этих «тык-дыков». Между прочим, вполне реальная книжица Евгении Голубевой «Тык-дык».
М.: Комильфо, 2011.
Прикол приколом, но в прозе современных авторов, в том числе и увенчанных премиями, тык-дыков хватает. Некоторые по-толстовски мыслят даже не страницами, а десятками авторских листов. Да только до замка графа Толстого путь не близкий. Тык-дык тык-дык тык-дык… На выходе —семисотстраничные «кирпичи». Если не девятисотстраничные. Звезданешь таким обидчику по башке — книге хоть бы хны, а вот башка обидчика треснет. И еще критики отдельные масла в огонь подливают: мол, роман объемом в шесть авторских листов — это и не роман вовсе. Повестушечка. Фигня. Даешь двенадцать! Восемнадцать! Двадцать четыре! Только сами потом шушукаются в кулуарах. Одни тихонечко признаются, что данилкинского «Ленина» полностью не осилили — десятки страниц пролистали, почти не глядя. Другие никак не могут оценить романы Сергея Самсонова — шибко длинные, зараза! Вот и назвали в итоге его «Железную кость» производственным романом про завод. Видать, решили, что там после трехсотой-четырехсотой страницы и дальше про завод будет, и читать бросили. А Шамиль Идиатуллин с «Городом Брежневым»? Столько нового про пионерское детство рассказал! Тык-дык тык-дык тык-дык… Возьмем примеры посвежее. Гришковца, например, с его «Театром отчаяния». 912 страниц. Некоторые книжные обозреватели, величающие себя литературными критиками, пытались было подступиться к фолианту, но не сдюжили — это ж сколько читать надо! В итоге наполнили свои обзоры тык-дыками.
Посоветовать что ли редакторам беспощадно резать по живому, не жалея чувств авторов? Так авторы ногами топать принимаются аки дети малые: «Как смел ты, червь, мой тык-дык убрать?!» Думают, что редакторы им зла желают, ампутируя тык-дыки без наркоза. Ведь каждый тык-дык важен. Каждый — уникален! Тык-дык тык-дык тык-дык…Поколение писателей, годящихся мне в деды, раз за разом пересказывает день похорон Сталина. Тык-дыки почти везде. Хотя надо признать, Евтушенко один запоминающийся образ нашел. Остальные же… Тык-дык тык-дык тык-дык…Поколение писателей, годящихся мне в отцы, раз за разом пересказывает день похорон Высоцкого. Тык-дык тык-дык тык-дык… Что будут пересказывать ровесники?
До нужного объема заметка не дотягивает, поэтому отсыплю-ка я вам на дорожку тык-дыков щедрою рукой. А заодно каких-нибудь умных словечек разом накидаю, без которых, поговаривают, критику ай-ай-ай как нельзя. Дискретность, эксплицитный, дискурс, инклюзивный, апофатический… Тык-дык тык-дык тык-дык…
До нужного объема заметка не дотягивает, поэтому отсыплю-ка я вам на дорожку тык-дыков щедрою рукой. А заодно каких-нибудь умных словечек разом накидаю, без которых, поговаривают, критику ай-ай-ай как нельзя. Дискретность, эксплицитный, дискурс, инклюзивный, апофатический… Тык-дык тык-дык тык-дык…
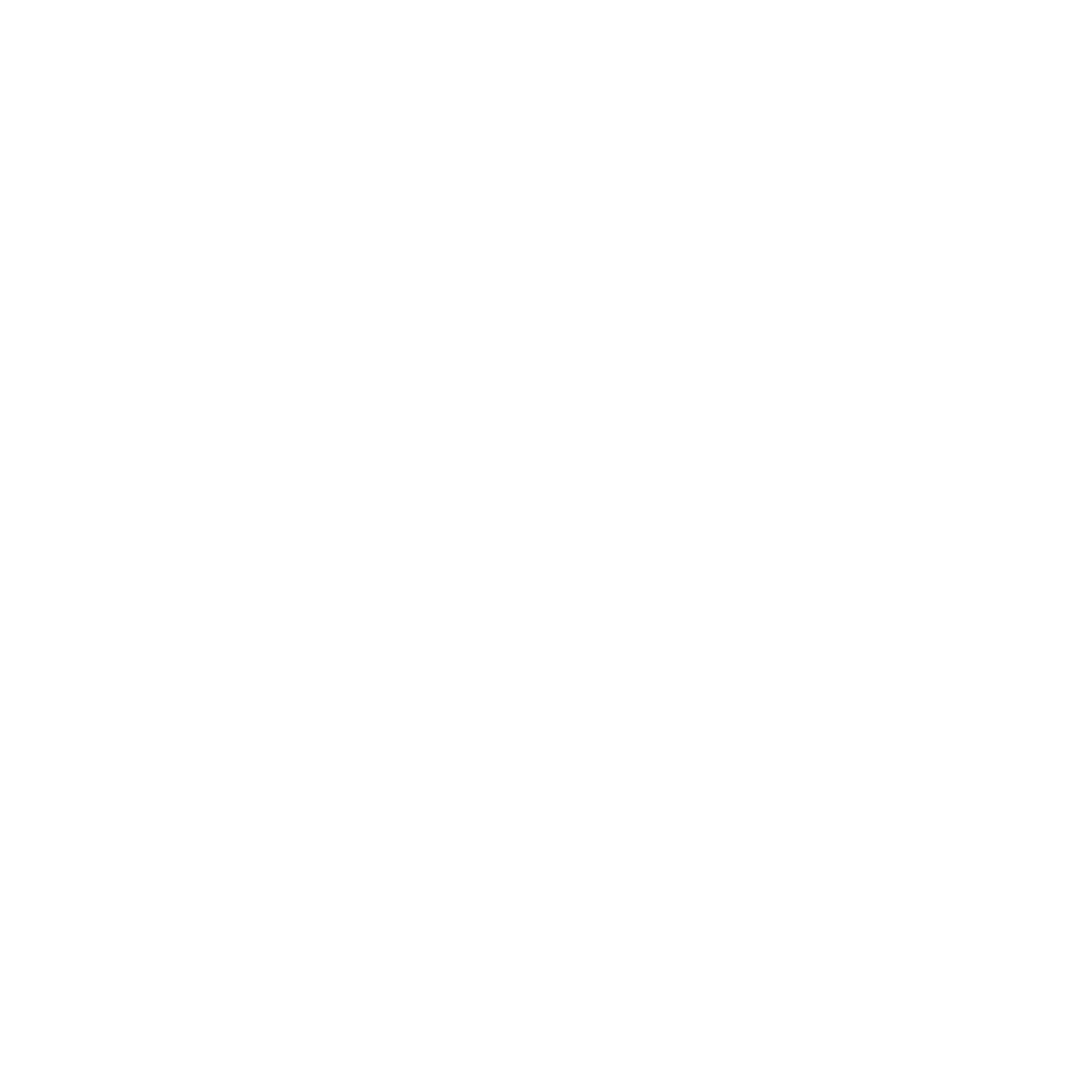
Чем отличаются голые гады от пресмыкающихся?
М. Булгаков. Роковые яйца
Юзефович говорит, что она «человек про книжки» и что любит читать. В фильме «Гоморра» портной Паскуале говорит, что чтобы раскроить корсаж «нужно много любви». То же Юзефович. Можно было сказать: «Как-то так» или «Такая вот фигня приключилась». В общем она так строит ответы, чтоб там поменьше торчало причин и следствий — чтоб не за что зацепиться. Образ Юзефович, который строит Юзефович же, очень аэродинамический получается. Любила читать — и вот книжки рецензировывает… Как такое может быть?..
М. Булгаков. Роковые яйца
Юзефович говорит, что она «человек про книжки» и что любит читать. В фильме «Гоморра» портной Паскуале говорит, что чтобы раскроить корсаж «нужно много любви». То же Юзефович. Можно было сказать: «Как-то так» или «Такая вот фигня приключилась». В общем она так строит ответы, чтоб там поменьше торчало причин и следствий — чтоб не за что зацепиться. Образ Юзефович, который строит Юзефович же, очень аэродинамический получается. Любила читать — и вот книжки рецензировывает… Как такое может быть?..
Пунктуация и орфография автора сохранены. – Ред.
«Мне приятно думать, что если нас будет достаточно много и мы будем достаточно энергично взбивать молоко лапками, то рано или поздно мы нащупаем твердую почву» (из интервью «Сегодняшняя литературная Россия очень маленькая и провинциальная») — эта метафара достаточно часто мелькает в интервью Юзефович, равно как и уверения в том, что «я люблю читать» — но «лягушка в банке» и «любовь к чтению» — это разное. Или она отдущи — или она «лягушка, тонущая в банке». Тут одно из двух. Ну или специальная аэродинамическая стокгольмская лягушка.
Это такой хорошо темперированный пир во время чумы. Юзефович расслабляется и получает удовольствие. Книгосфера все равно упадет, но — умри ты сегодня, а я завтра. Но не лучше ли падающего толкни?.. Не лучше ли понадеятся на вспышку на Солнце, которая обрушит сеть и всю электронику?..
Это такой хорошо темперированный пир во время чумы. Юзефович расслабляется и получает удовольствие. Книгосфера все равно упадет, но — умри ты сегодня, а я завтра. Но не лучше ли падающего толкни?.. Не лучше ли понадеятся на вспышку на Солнце, которая обрушит сеть и всю электронику?..
Дж. Свифт. Сказка бочки.
Из этого стокгольмского вытекает все остальное: «критериев нет», «я не отличаюсь от своего читателя», и собственно тогда какие могут возникнуть вопросы между мной и ним, когда мы однаковые и камлаем в такт. Я недавно перечитывал «Сказку бочки» старика Свифта и его пародийные экспликации звучат вполне серьезно в устах Юзефович.
Читатель «должен научиться сам для себя стать книжным навигатором» — а в просторечии стать примочкой к книгобизнесу. Но зачем такое нагнетание модальности?.. Может быть проще будет самому книжку написать?
Юзефович не задает себе вопросов: «Почему мне это нравится? Зачем мне это знать? Как именно я читаю то, что я читаю и возможно ли читать иначе?» — и суггестует похожих на нее. Потому что зачем же мыслящему бакланату задаваться такими вопросами?.. Не дай Бог скорость чтения упадет, а за ним и продажи.
Критерии суть вполне: эуфония, ритм, выбор и порядок слов. А книги имярек — (следуют выражения неупотребительные в печати), потому что читатель книг имярека не поднимется уже перечитать Толстого, а будет все вот это вот все читать и читать.
Чтение вообще не самоцель. Юзефович отстаивает схему «писатель пописывает, критик покрикивает, читатель почитывает». Вспоминается старик Берджесс. Добивал добавочную коппеечку к оплате рецензента, сбывая отрецензованное в два чемодана за полцены электричкой в Лондон.
Повторю банально, чтение книжки не само цель. Есть качество чтения: от по слогам до наизусть. Хорошее чтение — это лазая в словарь и перечитывая 2−3-4 раза предложение, оркеструя его внутри головы. И далее — перечитывание, переперечитывание, перепереперечитывание и знание наизусть. «Евгения Онегина» и «Ревизора» целиком. «Войны и мир» — близко к тексту. Для хорошего чтения — поверьте! — костры из книг на прощадях и стогнах гораздо пользительней, чем книжный бизнес и служилый бакланат, который читают книжку, чтоб потом о нее потрындеть.
Письменная речь в книжки не упирается. Я напимер с увлечением читаю надписи на кабаках и футболкох. Есть Толстой и статусы вконтакте. Все остальное — бумага с закорючками для утренней закофейной или вечерней предсонной попробежки глазами.
Читатель «должен научиться сам для себя стать книжным навигатором» — а в просторечии стать примочкой к книгобизнесу. Но зачем такое нагнетание модальности?.. Может быть проще будет самому книжку написать?
Юзефович не задает себе вопросов: «Почему мне это нравится? Зачем мне это знать? Как именно я читаю то, что я читаю и возможно ли читать иначе?» — и суггестует похожих на нее. Потому что зачем же мыслящему бакланату задаваться такими вопросами?.. Не дай Бог скорость чтения упадет, а за ним и продажи.
Критерии суть вполне: эуфония, ритм, выбор и порядок слов. А книги имярек — (следуют выражения неупотребительные в печати), потому что читатель книг имярека не поднимется уже перечитать Толстого, а будет все вот это вот все читать и читать.
Чтение вообще не самоцель. Юзефович отстаивает схему «писатель пописывает, критик покрикивает, читатель почитывает». Вспоминается старик Берджесс. Добивал добавочную коппеечку к оплате рецензента, сбывая отрецензованное в два чемодана за полцены электричкой в Лондон.
Повторю банально, чтение книжки не само цель. Есть качество чтения: от по слогам до наизусть. Хорошее чтение — это лазая в словарь и перечитывая 2−3-4 раза предложение, оркеструя его внутри головы. И далее — перечитывание, переперечитывание, перепереперечитывание и знание наизусть. «Евгения Онегина» и «Ревизора» целиком. «Войны и мир» — близко к тексту. Для хорошего чтения — поверьте! — костры из книг на прощадях и стогнах гораздо пользительней, чем книжный бизнес и служилый бакланат, который читают книжку, чтоб потом о нее потрындеть.
Письменная речь в книжки не упирается. Я напимер с увлечением читаю надписи на кабаках и футболкох. Есть Толстой и статусы вконтакте. Все остальное — бумага с закорючками для утренней закофейной или вечерней предсонной попробежки глазами.
«На столике у них маслице да фуяслице…» – А. Солженицын, «Один день Ивана Денисовича».
Неслучайна защита Донцовой «Я считаю, что Донцова — хороший массовый продукт». Очень помню, как Донцова в оправдание своего многописания говорила, что, дескать, ну вот она пишет постоянно. Юзефович так же говорит, что, дескать, постоянно читает, а музыку кино не любит. Но лучше смотреть хорошее кино, чем читать плохую книгу. Надо действовать по обстановке, как учил товарищ Сталин.
Юзефович пишет, что «исторический взгляд на литературу мне гораздо ближе, чем филологический». Тут у Юзефович умственная синекдоха, потому что история-history — это просто подотдел прозы, притом дурная. Из чего логично вытекает: «Вкус у меня прокачанный, разработанный» — говорит Юзефович и попадает в предвосхищение основания, ибо поелику вкус ее будто бы такой из-за тысяч прочитанных книг, ну и для дальшейшего прочтения очередных тысяч. Но стоит задаться вопосом — а нахейра читать все эти тысячи, если тебе некогда Толстого перечитать?.. «Вкус» свой Юзефович сервирует тут обоюдоостро: как орудие и как некую ценность. Как орудие может быть, но какая в нем ценность?.. Какая ценность вкуса от прочтенных тысяч?.. Это просто дурное копошение, равно как и «тропинки в толще». Ну куда могут вести «тропинки в толще»?.. Это уже не лягушка в банке молока, а трупные черви в могиле. Лягушек в банке было двое, так что «искомая твердь под ногами» — это не масло, а труп одной из них.
Юзефович пишет, что «исторический взгляд на литературу мне гораздо ближе, чем филологический». Тут у Юзефович умственная синекдоха, потому что история-history — это просто подотдел прозы, притом дурная. Из чего логично вытекает: «Вкус у меня прокачанный, разработанный» — говорит Юзефович и попадает в предвосхищение основания, ибо поелику вкус ее будто бы такой из-за тысяч прочитанных книг, ну и для дальшейшего прочтения очередных тысяч. Но стоит задаться вопосом — а нахейра читать все эти тысячи, если тебе некогда Толстого перечитать?.. «Вкус» свой Юзефович сервирует тут обоюдоостро: как орудие и как некую ценность. Как орудие может быть, но какая в нем ценность?.. Какая ценность вкуса от прочтенных тысяч?.. Это просто дурное копошение, равно как и «тропинки в толще». Ну куда могут вести «тропинки в толще»?.. Это уже не лягушка в банке молока, а трупные черви в могиле. Лягушек в банке было двое, так что «искомая твердь под ногами» — это не масло, а труп одной из них.

Дмитрий Бавильский
Литература постепенно превращается в театр, существующий здесь и сейчас. У театра, как известно, нет памяти — спектакли испаряются, вместе с моментом, даже если их снимают, тогда как литература, напротив, материальное воплощение опыта, зафиксированного в словах. Но издательско-редакционная машина работает бесперебойно, постоянно поставляя новинки, за которые вынуждены браться обозреватели, существующие в режиме информационных поводов. Культурная инфраструктура, таким образом, превращает литературу (то, что доступно среднему потребителю, не искушенному в поисках и в выборе) в товар, подобно другим продуктам, будто бы имеющий срок годности.
С этим сталкиваются все критики и обозреватели, занимающиеся текущим литературным процессом: попробуйте предложить журналу (я уж не говорю о газетах и, тем более, сайтах) книгу, изданную хотя бы полтора года назад. Ответом будет вежливое недоумение: зачем, кажется, возвращаться к устарелому проекту, если более свежие еще как следует не рассмотрены?
Новинки копятся у нас на столах, нуждаясь во внимании и их все больше, а времени на чтение все меньше и меньше, так как носители накапливаются, а время нет. На моей памяти ни один медиум (может быть, кроме городского телефона, да пейджера) не ушел без следа, а книги вынужденно вступают на поле других агрегатных состояний чтения — новостей в газетах и на сайтах, блогов и соцсетей, теперь вот каналы в телеграме добавились, а ни одно из этих добавлений добровольно рассасываться не желает.
С какого-то момента я обратил внимание на то, что мне трудно читать бумажные книги и волевым усилием вернул себя внутрь традиционного чтения. Для этого мне понадобилось расчистить временную «площадку» для активной работы головы, поскольку большинство новых форм чтения увлекают людей пассивным восприятием информации. Мозг, привыкающий «лениться», расхолаживается и возвращается к классической норме с большим трудом.
У этого потребительского отношения к книгам как к части культурного конвейера есть еще одно непрямое, но весьма интересное следствие. Начав заниматься литературной критикой в начале 1990-х годов прошлого века, я видел уже смену нескольких поколений и мне интересно наблюдать за теми, кто профессионально размышляет об актуальной словесности сегодня.
Мне бы не хотелось называть нынешний молодняк малограмотным, как раз наоборот — многие из них превосходят предшественников скоростью и оперативностью, но вот что я подметил: литература, желающая стать театром, то есть сценой сиюминутности, у них словно бы лишена своих корней.
Молодые критики бесстрашно бросаются на толстые тома, вроде «Щегла», «Бесконечной шутки» или же «Маленькой жизни» с таким самоощущением, словно бы у них прочитаны весь Бальзак или Толстой, Диккенс или Трифонов. Но ведь не прочитаны, если судить по текстам, которые словно бы подвисают в воздухе, лишенные почвы.
Ценность культуры советского периода — вопрос дискуссионный, однако важно понимать, что без тогдашних текстов не было бы нынешних: еще Ролан Барт в «S/Z» объяснял, что любой текст есть сумма всех ему предшествовавших и невозможно понять «Чапаева и Пустоту» или «Кысь» без опыта, например, братьев Стругацких. Эволюционные звенья хоть и пропадают со всех радаров, но, по логике процесса, никуда не деваются, продолжая существовать подводной частью айсберга.
Впрочем, и «Кысь» и любые романы Пелевина прошлых лет — вроде как тоже давно уже «просроченные йогурты», уступившие место на полках магазинов новым продуктам.
Но каждый раз, встречая подробный разбор бесконечной «Бесконечной шутки», прочитанной с пафосом неофита, я переживаю за классиков, задвинутых в тень. Конечно, классики в моем сочувствии не нуждаются — им в отличие от нас предстоит вечная жизнь в каноне.
Однако я ничего не могу с собой поделать — мне кажется, что тратить время на новые толстенные тома (а мода на такие протяженные романы только крепнет с каждым годом) заедающие чужое существование, по меньшей мере, странно, не ознакомившись перед этим со сливками всемирной литературы, хотя бы в пределах университетской программы.
Ведь если полчища грамотных блогеров способны сегодня эффектно разобрать любой текст, то от профессиональной критики или популярных обозревателей требуется что-то еще. Например, знание контекста и истории жанров. Тогда критерии оценки будут меньше искажаться, а рецензии не будут сводиться к пересказу и не будут изобретаться и велосипеды — ведь в каждой новой дискуссии и повороте общественного мнения, будоражащего общественность в фейсбуке, я вижу вопросы и проблемы, которые мы обсуждали с коллегами и в 1990-х, когда российская культурная журналистика начинала с буквального нуля, и в нулевых, когда оказалось, что все, что кажется нам горячими новостями, движется по кругу.
И если только на моей памяти литературный процесс уже сделал несколько кругов, то, видимо, он будет закольцовываться и дальше. Хотя бы до того времени, пока Пелевин будет продолжать каждый год выпускать по новому сорту йогурта.
Впрочем, и «Кысь» и любые романы Пелевина прошлых лет — вроде как тоже давно уже «просроченные йогурты», уступившие место на полках магазинов новым продуктам.
Но каждый раз, встречая подробный разбор бесконечной «Бесконечной шутки», прочитанной с пафосом неофита, я переживаю за классиков, задвинутых в тень. Конечно, классики в моем сочувствии не нуждаются — им в отличие от нас предстоит вечная жизнь в каноне.
Однако я ничего не могу с собой поделать — мне кажется, что тратить время на новые толстенные тома (а мода на такие протяженные романы только крепнет с каждым годом) заедающие чужое существование, по меньшей мере, странно, не ознакомившись перед этим со сливками всемирной литературы, хотя бы в пределах университетской программы.
Ведь если полчища грамотных блогеров способны сегодня эффектно разобрать любой текст, то от профессиональной критики или популярных обозревателей требуется что-то еще. Например, знание контекста и истории жанров. Тогда критерии оценки будут меньше искажаться, а рецензии не будут сводиться к пересказу и не будут изобретаться и велосипеды — ведь в каждой новой дискуссии и повороте общественного мнения, будоражащего общественность в фейсбуке, я вижу вопросы и проблемы, которые мы обсуждали с коллегами и в 1990-х, когда российская культурная журналистика начинала с буквального нуля, и в нулевых, когда оказалось, что все, что кажется нам горячими новостями, движется по кругу.
И если только на моей памяти литературный процесс уже сделал несколько кругов, то, видимо, он будет закольцовываться и дальше. Хотя бы до того времени, пока Пелевин будет продолжать каждый год выпускать по новому сорту йогурта.
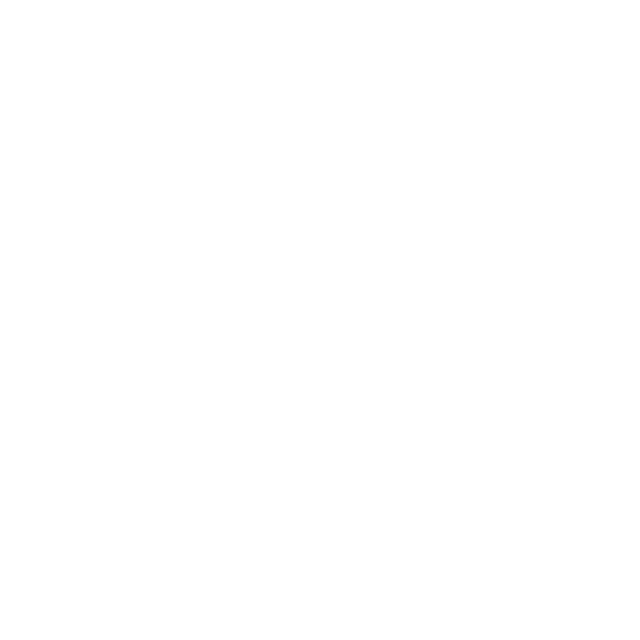
Максим Алпатов
Мантия пророка — частый соблазн для литературного критика, когда он пишет не о конкретной книге или авторе, а о явлениях и тенденциях. Иногда предсказания сбываются, ведь они пользуются, как правило, тем же языком художественной литературы и могут повлиять на нее изнутри. Но чаще выходит пальцем в небо — как в статье Игоря Гулина «Что происходит с текстом», опубликованной на портале Syg.ma.
По мнению Гулина, текст больше не стремится к статусу шедевра и становится «напрасным объектом», не оправдывающим «эмоциональных и интеллектуальных инвестиций». Причина «инфляции» — «сверх-доступность, капиталистическое перепроизводство, в котором объекты утрачивают свою единичную ценность, становятся частью неразличимых потоков текста». Границы отдельного высказывания якобы необратимо размываются. Конечно, не обошлось без соцсетей — именно благодаря им «фотография с отдыха, политический манифест, новость о помолвке, разговор с таксистом, стихотворение существуют на одних правах».
По мнению Гулина, текст больше не стремится к статусу шедевра и становится «напрасным объектом», не оправдывающим «эмоциональных и интеллектуальных инвестиций». Причина «инфляции» — «сверх-доступность, капиталистическое перепроизводство, в котором объекты утрачивают свою единичную ценность, становятся частью неразличимых потоков текста». Границы отдельного высказывания якобы необратимо размываются. Конечно, не обошлось без соцсетей — именно благодаря им «фотография с отдыха, политический манифест, новость о помолвке, разговор с таксистом, стихотворение существуют на одних правах».
Припугнув, Гулин тут же успокаивает: «Проходя девальвацию, становясь напрасной вещью, текст обретает и некое иное измерение». Секрет перерождения: «нетребовательность, взаимный договор с читателем об умеренном взаимном безразличии». Тексты, которые «обречены на непрочитанность в момент своего создания», не участвуют в обороте символического капитала, именно в них критик видит ключ к выживанию литературы.
В мрачной картине эволюции текста смущает одно — она перевернута с ног на голову. Бесконечные потоки информации ведут не к размыванию, а дроблению восприятия. Читатель пытается выцепить значимое из мешанины спама и выкручивает контрастность на максимум. Подборки распадаются на стихи, стихи — на мемы. Фрагмент приобретает права текста. Единица измерения поэзии теперь — даже не стихотворение, а цитата. И похвала «хороший текст» — не «маркер эстетической старомодности», как уверяет Гулин, а наоборот — самый популярный вид комментария под любым опубликованным в соцсетях произведением.
В качестве поэтов, идеально адаптировавшихся под культуру перепроизводства, критик справедливо приводит в пример Вадима Банникова и Виктора Лисина. Только механизм адаптации совсем другой — стихотворения мимикрируют под мемы. Смысловые акценты у Банникова и Лисина, как панчлайны в попсовой комедии — рассчитаны на моментальный отклик и адресованы сразу нескольким видам эстетических вкусов. Их тексты свободно перемещаются из подборки в подборку, ничего не приобретая и не теряя.
Характерно, что под текстом Игорь Гулин понимает «поэтическое или прозаическое произведение, в той или иной степени новаторское по своим установкам».
В мрачной картине эволюции текста смущает одно — она перевернута с ног на голову. Бесконечные потоки информации ведут не к размыванию, а дроблению восприятия. Читатель пытается выцепить значимое из мешанины спама и выкручивает контрастность на максимум. Подборки распадаются на стихи, стихи — на мемы. Фрагмент приобретает права текста. Единица измерения поэзии теперь — даже не стихотворение, а цитата. И похвала «хороший текст» — не «маркер эстетической старомодности», как уверяет Гулин, а наоборот — самый популярный вид комментария под любым опубликованным в соцсетях произведением.
В качестве поэтов, идеально адаптировавшихся под культуру перепроизводства, критик справедливо приводит в пример Вадима Банникова и Виктора Лисина. Только механизм адаптации совсем другой — стихотворения мимикрируют под мемы. Смысловые акценты у Банникова и Лисина, как панчлайны в попсовой комедии — рассчитаны на моментальный отклик и адресованы сразу нескольким видам эстетических вкусов. Их тексты свободно перемещаются из подборки в подборку, ничего не приобретая и не теряя.
Характерно, что под текстом Игорь Гулин понимает «поэтическое или прозаическое произведение, в той или иной степени новаторское по своим установкам».
Выходит, критическое высказывание — вроде и не текст вовсе. Непонятно, почему инфляция его не коснулась. Если принять сторону автора, разве сама статья — не «напрасный объект», затерявшийся в репостах?
Первую неделю после публикации «производители и потребители новой литературы» активно делились ей в фейсбуке и вконтакте. Потом интенсивность упала — видимо, «неразличимые потоки» сделали свое черное дело.
Или другой вариант: статья «Что происходит с текстом» символизирует следующий этап эволюции высказывания. То самое «заклятье», о котором рассуждает Гулин, «ритуал, в котором автор жертвует „эстетической эффективностью“ текста ради обретения им новой силы». Но сила почему-то не ощущается — текст как текст. Рыхлый, лишенный внятной структуры. Обычная реплика «в вечность» на бегу. Написанная, по признанию автора, «за день до выступления на конференции» в 2017 году, она, похоже, два года успешно избегала редактуры:
«Она (литература. — М. А.) существует на двойных основаниях. С одной стороны — функционируя по упрощенно понимаемым законам современного искусства, в котором ценность конкретной работы сравнительно мала в сравнении с весом проекта, силой концепции. С другой же — продолжая использовать техники производства высокой поэзии, требующей от автора предельной вовлеченности, „самоотдачи“, от каждого текста — интенсивности, высокого качества».
Высокая поэзия высокого качества; ценность работы сравнительно мала в сравнении. Действительно, получился текст, который «не будет прочитан и знает об этом». Он даже не очень старается быть написанным.
Статья Гулина под видом рассказа о новой жизни художественного текста задним числом оправдывает необязательность чтения. Поэзия вовсе не сводится к символической «манере представления себя», просто кому-то проще анализировать позу, а не стихотворение. Чем меньше вкладываешь, тем ниже риск инфляции — это работает и в критике. Разговор о «заведомой нечитабельности, непонятности» как «конструктивной основе письма» никаких инвестиций не требует вообще.
Тут история вовсе не о жертвенности, а наоборот — о гедонизме. Или даже аутоэротической асфиксии — придушим самоценность текста ради быстрого удовольствия. Поэзию, где «напрасность заложена с самого начала», еще легче имитировать, чем формальное новаторство. Инфляция только ускорится, и перепроизводство побьет все рекорды. Отказ от диалога не приведет к перерождению литературы, всем станет только хуже. Кроме, конечно, тех, кому изначально было нечего сказать.
Или другой вариант: статья «Что происходит с текстом» символизирует следующий этап эволюции высказывания. То самое «заклятье», о котором рассуждает Гулин, «ритуал, в котором автор жертвует „эстетической эффективностью“ текста ради обретения им новой силы». Но сила почему-то не ощущается — текст как текст. Рыхлый, лишенный внятной структуры. Обычная реплика «в вечность» на бегу. Написанная, по признанию автора, «за день до выступления на конференции» в 2017 году, она, похоже, два года успешно избегала редактуры:
«Она (литература. — М. А.) существует на двойных основаниях. С одной стороны — функционируя по упрощенно понимаемым законам современного искусства, в котором ценность конкретной работы сравнительно мала в сравнении с весом проекта, силой концепции. С другой же — продолжая использовать техники производства высокой поэзии, требующей от автора предельной вовлеченности, „самоотдачи“, от каждого текста — интенсивности, высокого качества».
Высокая поэзия высокого качества; ценность работы сравнительно мала в сравнении. Действительно, получился текст, который «не будет прочитан и знает об этом». Он даже не очень старается быть написанным.
Статья Гулина под видом рассказа о новой жизни художественного текста задним числом оправдывает необязательность чтения. Поэзия вовсе не сводится к символической «манере представления себя», просто кому-то проще анализировать позу, а не стихотворение. Чем меньше вкладываешь, тем ниже риск инфляции — это работает и в критике. Разговор о «заведомой нечитабельности, непонятности» как «конструктивной основе письма» никаких инвестиций не требует вообще.
Тут история вовсе не о жертвенности, а наоборот — о гедонизме. Или даже аутоэротической асфиксии — придушим самоценность текста ради быстрого удовольствия. Поэзию, где «напрасность заложена с самого начала», еще легче имитировать, чем формальное новаторство. Инфляция только ускорится, и перепроизводство побьет все рекорды. Отказ от диалога не приведет к перерождению литературы, всем станет только хуже. Кроме, конечно, тех, кому изначально было нечего сказать.
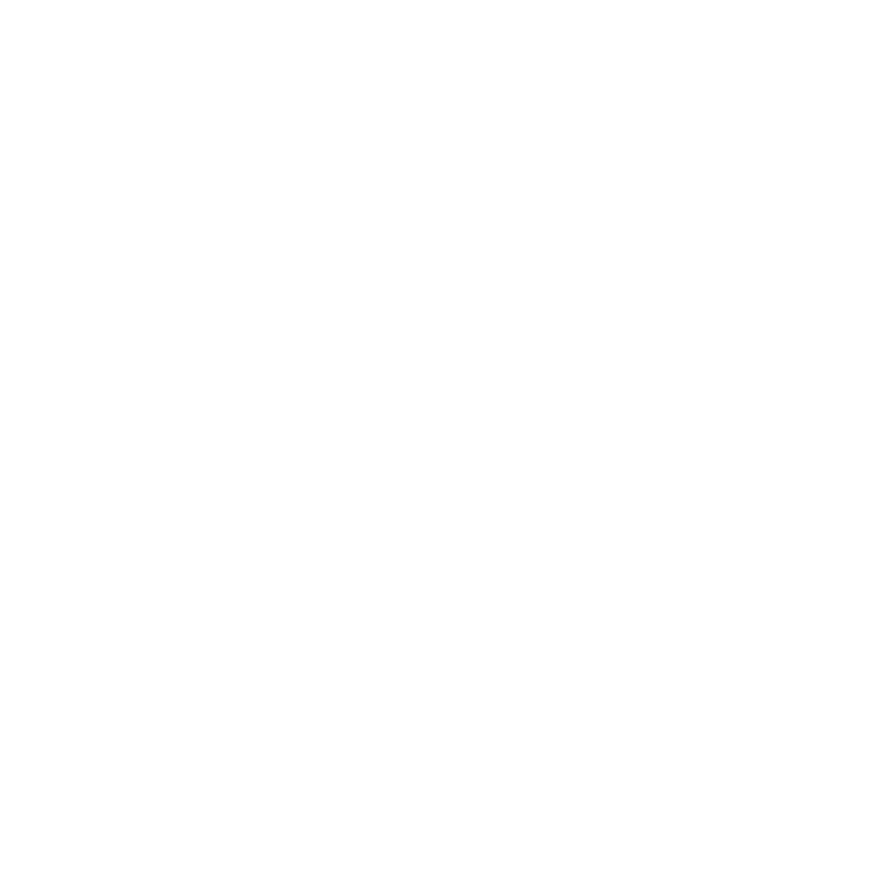
Кирилл Молоков
В прошлый раз я писал об интерактивной литературе, ее перспективах и возможной интеграции искусства слова с технологиями. Для закоренелых консерваторов подобное развитие событий может показаться едва ли не богохульством, однако, как бы то ни было, литература при подобном сценарии все-таки продолжит существовать и даже, скорее всего, расширит свои границы. Куда большую опасность для литературы представляют роботы, уже давно научившиеся писать добротные романы и теперь, судя по всему, вышедшие на совершенно иной уровень, который мы, впрочем, пока вряд ли сможем оценить.
В декабре 2018 года интернет заполонили мемы о человеке в костюме робота, которого один из главных российских телеканалов «Россия 24» едва ли не выдал за технологический прорыв нашего времени. Все это смешно и грустно, а если брать во внимание последнее известное достижение гонконгской компании «Hanson Robotics», — робота Софию, которая получила паспорт Саудовской Аравии и выступает на конференциях ООН, — то даже становится стыдно. Однако удивительно не то, насколько телевидение уже давно скомпрометировало себя, потеряв грань между адекватной реальностью и безумными сюрреалистичными сказками, а то, что этот случай даже афишировался рядом иностранных СМИ. При этом почему-то новость о том, что пару лет назад японский робот-писатель едва не выиграл одну из национальных литературных премий, прошла как-то практически незаметно.
Вспоминая мой прошлый этюд на тему интерактивной литературы, хотелось бы отметить, что Япония вообще шагает в этом отношении семимильными шагами. Визуальные романы там выпускаются пачками уже не первое десятилетие (пусть и 99.9% из них пока оказываются третьесортными), в 2007 году на свет родилась первая виртуальная певица Мику Хацунэ, созданная компанией «Crypton Future Media» (между прочим, ее голограмма собирает целые стадионы, а сама певица получила статус поп-идола; youtube и google вам в помощь), и вот, наконец, в 2016 году роман, написанный искусственным интеллектом едва не выиграл литературную премию Хоси Синъити. Тогда в конкурсе принимали участие порядка полутора тысяч писателей, среди которых около десяти были роботами. Разумеется, для непредвзятости в отношении к «бесчувственному» искусственному интеллекту, никто не афишировал, что некоторые участники не были живыми людьми.
Вспоминая мой прошлый этюд на тему интерактивной литературы, хотелось бы отметить, что Япония вообще шагает в этом отношении семимильными шагами. Визуальные романы там выпускаются пачками уже не первое десятилетие (пусть и 99.9% из них пока оказываются третьесортными), в 2007 году на свет родилась первая виртуальная певица Мику Хацунэ, созданная компанией «Crypton Future Media» (между прочим, ее голограмма собирает целые стадионы, а сама певица получила статус поп-идола; youtube и google вам в помощь), и вот, наконец, в 2016 году роман, написанный искусственным интеллектом едва не выиграл литературную премию Хоси Синъити. Тогда в конкурсе принимали участие порядка полутора тысяч писателей, среди которых около десяти были роботами. Разумеется, для непредвзятости в отношении к «бесчувственному» искусственному интеллекту, никто не афишировал, что некоторые участники не были живыми людьми.
В итоге в шорт-лист от роботов залетел один роман — «День, когда компьютер напишет роман», который по некоторым источникам в итоге финишировал на второй строчке.
По словам критиков, одним из немногих минусов романа являлась плохая проработка персонажей, однако в целом произведение было на голову выше типичной беллетристики и даже некоторых горе-бестселлеров.
На дворе 2019 год. С того претенциозного случая, когда робот едва не получил национальную премию по литературе, прошло всего несколько лет, но уже совсем недавно компания «OpenAI», одним из основателей которой является вездесущий Илон Маск, заявила о создании настолько первоклассного текстового генератора, что ей пришлось отказаться от его выпуска в силу того, что робот может «попасть не в те руки». Если верить их отчетам, то бот способен написать статью, в которой даже лингвист вряд ли сможет обнаружить робота. Здесь стоит сделать особый акцент на слове статьи, поскольку роботы-журналисты уже давно используются некоторыми IT-гигантами (у «Яндекса» даже есть автопоэт, который пишет стихи на основе поисковых запросов пользователей). Правда, способности этих ботов редко уходят за рамки короткой новости и игры с текстом по принципу конструктора лего. Именно поэтому новость о том, что «OpenAI» побоялись выпускать свой продукт из-за этических соображений, кажется настолько жуткой, что напоминает дешевый маркетинговый ход. А почему нет? Проект компании не увенчался успехом и вместо того, чтобы честно сказать об этом, они вполне могли придумать вот такую байку, ловко выкрутившись из ситуации и еще при этом сделав пиар-ход конем — и благородное дело сделали, и создали супербота-журналиста. Возможно, что так оно и есть, но вернемся на секунду в 2016 год в Японию, где романы были представлены высококвалифицированными программистами, а не крупными IT-корпорациями, которые сегодня имеют куда больший потенциал. А ведь тогда робот едва не взял национальную премию.
Очевидно, что роботы-писатели в ближайшие десятилетия станут неотъемлемой частью техномира, однако тут возникает резонный вопрос: кто автор? Формально большинство нынешних роботов лишь следуют строгим инструкциям, которые прописаны в программах. Является ли тогда программист автором? И да, и нет. С таким же успехом можно было бы назвать природу автором «Гамлета» или «Божественной комедии». С другой стороны, роль программиста в этом действительно велика, так как сейчас роботы по большей части скорее собирают тексты из отдельных пазлов, нежели сочиняют сами (кстати, чем вам не постмодернизм?). Но это только пока, поскольку история робототехники уже запечатлела своим объективом «разговор» роботов на их собственном выдуманном языке, который при этом развивался с колоссальной скоростью. Кому-то от этого может стать не по себе — вообразите, что через лет 10−20 робот за пару дней будет писать роман флоберовского качества и выкидывать философские пассажи на уровне Манна или Достоевского. Возможно, что это уничтожит литературу, сведя ее ценность к нулю. Возможно, что мы вообще перестанем нуждаться в ней, начав также интегрироваться с технологиями, ведь, простите меня за корявый, но все же актуальный каламбур, литература — это часть humanities, а не cyborgities. А возможно, что литература, наоборот, взлетит на совершенно иной уровень, ибо тягаться нам придется с машинами, которые априори будут делать это гораздо быстрее и лучше. Выживает искуснейший.
На дворе 2019 год. С того претенциозного случая, когда робот едва не получил национальную премию по литературе, прошло всего несколько лет, но уже совсем недавно компания «OpenAI», одним из основателей которой является вездесущий Илон Маск, заявила о создании настолько первоклассного текстового генератора, что ей пришлось отказаться от его выпуска в силу того, что робот может «попасть не в те руки». Если верить их отчетам, то бот способен написать статью, в которой даже лингвист вряд ли сможет обнаружить робота. Здесь стоит сделать особый акцент на слове статьи, поскольку роботы-журналисты уже давно используются некоторыми IT-гигантами (у «Яндекса» даже есть автопоэт, который пишет стихи на основе поисковых запросов пользователей). Правда, способности этих ботов редко уходят за рамки короткой новости и игры с текстом по принципу конструктора лего. Именно поэтому новость о том, что «OpenAI» побоялись выпускать свой продукт из-за этических соображений, кажется настолько жуткой, что напоминает дешевый маркетинговый ход. А почему нет? Проект компании не увенчался успехом и вместо того, чтобы честно сказать об этом, они вполне могли придумать вот такую байку, ловко выкрутившись из ситуации и еще при этом сделав пиар-ход конем — и благородное дело сделали, и создали супербота-журналиста. Возможно, что так оно и есть, но вернемся на секунду в 2016 год в Японию, где романы были представлены высококвалифицированными программистами, а не крупными IT-корпорациями, которые сегодня имеют куда больший потенциал. А ведь тогда робот едва не взял национальную премию.
Очевидно, что роботы-писатели в ближайшие десятилетия станут неотъемлемой частью техномира, однако тут возникает резонный вопрос: кто автор? Формально большинство нынешних роботов лишь следуют строгим инструкциям, которые прописаны в программах. Является ли тогда программист автором? И да, и нет. С таким же успехом можно было бы назвать природу автором «Гамлета» или «Божественной комедии». С другой стороны, роль программиста в этом действительно велика, так как сейчас роботы по большей части скорее собирают тексты из отдельных пазлов, нежели сочиняют сами (кстати, чем вам не постмодернизм?). Но это только пока, поскольку история робототехники уже запечатлела своим объективом «разговор» роботов на их собственном выдуманном языке, который при этом развивался с колоссальной скоростью. Кому-то от этого может стать не по себе — вообразите, что через лет 10−20 робот за пару дней будет писать роман флоберовского качества и выкидывать философские пассажи на уровне Манна или Достоевского. Возможно, что это уничтожит литературу, сведя ее ценность к нулю. Возможно, что мы вообще перестанем нуждаться в ней, начав также интегрироваться с технологиями, ведь, простите меня за корявый, но все же актуальный каламбур, литература — это часть humanities, а не cyborgities. А возможно, что литература, наоборот, взлетит на совершенно иной уровень, ибо тягаться нам придется с машинами, которые априори будут делать это гораздо быстрее и лучше. Выживает искуснейший.
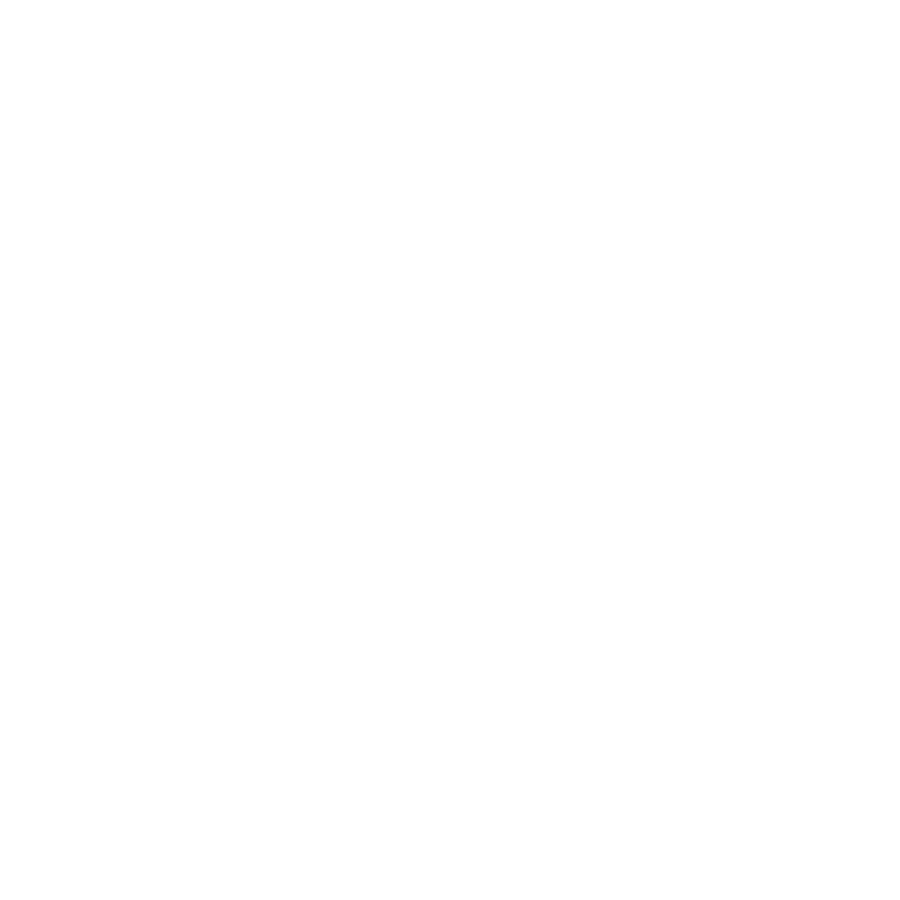
Ольга Балла
Чтения последних месяцев наводят мое внимание на формирование — даже, пожалуй, стремительное созревание и внутреннюю дифференциацию — того, что можно назвать травматическим дискурсом в новейшей русской словесности: складывание корпуса не (обязательно) знающих друг о друге, но определяемых самим воздухом времени текстов, посвященных выговариванию — словесному, символическому освоению — либо травмы (или совокупности таковых), либо принципиальной травмируемости, уязвимости человека, неустранимой хрупкости и бедственности его положения в мире вообще. К этой его бедственности, к принципиальной катастрофичности его удела, несомненно, имеют отношение — даже прямое — и социальные, и политические обстоятельства, но их положение в этом смысле не привилегированное: они — на равных правах со многими иными факторами. Одной из важнейших задач литературы, пишущейся сегодня на русском языке (неважно, по какую сторону от границ государства российского) видится мне выработка средств к тому, чтобы говорить об этом, видеть это, понимать это, жить с этим.
Если искать свежих примеров в недавно прочитанном, в выполнении этой задачи сходятся, например, — двигаясь из совершенно разных отправных точек, очень разные эстетически — стихотворный сборник Линор Горалик «Всенощная зверь» и «Маннелиг в цепях» Ильи Данишевского — сложноустроенный текст (многотекстье) между (квази?)исповедальной, (квази?)автобиографической прозой и метафизическим, визионерским, шаманским верлибром, расплавляющий в себе элементы и того и другого. Эти два текста тем упорнее видятся выражающими некоторую общую, превосходящую каждый из них тенденцию, что написаны людьми разных поколений и с очень разным социальным опытом.
Оба — если говорить совсем коротко — о глубоком и темном, что сопровождало и сопровождает человека всегда, но чему сопротивляется культурное зрение, отправляет его в зону слепоты — и именно поэтому не слишком умеет его видеть. В предисловии к книге Данишевского Елена Фанайлова не зря замечает, что первое чувство, накрывающее читателя в связи с нею — «недоумение, что хотел сказать автор. Недоумение от предъявленного потока жизни, от неспособности автора к <…> моральному финалу для зрителя». Автор же «хотел сказать» о корнях человеческого. О лежащем глубже логики и, что еще того важнее, глубже этики (которая ведь — тоже механизм, защищающий от хаоса, особенно внутреннего, от живущих в человеке разрушительных сил — совершенно неотделимых в своем истоке от его витальности, от сил животворящих).
Оба — если говорить совсем коротко — о глубоком и темном, что сопровождало и сопровождает человека всегда, но чему сопротивляется культурное зрение, отправляет его в зону слепоты — и именно поэтому не слишком умеет его видеть. В предисловии к книге Данишевского Елена Фанайлова не зря замечает, что первое чувство, накрывающее читателя в связи с нею — «недоумение, что хотел сказать автор. Недоумение от предъявленного потока жизни, от неспособности автора к <…> моральному финалу для зрителя». Автор же «хотел сказать» о корнях человеческого. О лежащем глубже логики и, что еще того важнее, глубже этики (которая ведь — тоже механизм, защищающий от хаоса, особенно внутреннего, от живущих в человеке разрушительных сил — совершенно неотделимых в своем истоке от его витальности, от сил животворящих).
Каждый из этих текстов — на свой лад — совершенно беспощаден и к читателю, и к самому говорящему. «Всенощная зверь» в этом смысле, пожалуй, еще немилосерднее «Всех, способных дышать дыхание» — романа, который тоже имеет прямое отношение к обсуждаемой нами сейчас смысловой работе и к которому — так и хочется думать — «Зверь» образует своего рода поэтический комментарий, по крайней мере — очень естественно в качестве такого комментария читается. Немилосерднее она потому, что роман все-таки основан на фантастическом допущении, и действие его сдвинуто хоть и в ближайшее, но все-таки в будущее, а «Зверь» — о том, что здесь, сейчас, всегда. Хотя на самом-то деле эта немилосердность — прямое следствие огромного сострадания к человеку в его «страшной боли бытия».
Каждый сметает границы между «дозволенным» и «недозволенным», каждый выжигает самую возможность успокоительных иллюзий, превращая читателя, чутко следующего предлагаемыми текстом путями, в сплошную разверстую рану. Авторы каждого из этих текстов прямо называют неназываемое, заставляют — себя и нас — смотреть на то, от чего человек уже из простых защитных соображений склонен отводить глаза.
Все это заставляет думать о названных текстах как о ростках — сильных, жизнеспособных — «литературы травмы»: травмы не как того, что должно быть и может быть исцелено, но как коренного свойства человека, в каком-то смысле — как условия самой его человечности. О литературе «болевого зрения». А тем самым — и о расширении области культурной восприимчивости.
Каждый сметает границы между «дозволенным» и «недозволенным», каждый выжигает самую возможность успокоительных иллюзий, превращая читателя, чутко следующего предлагаемыми текстом путями, в сплошную разверстую рану. Авторы каждого из этих текстов прямо называют неназываемое, заставляют — себя и нас — смотреть на то, от чего человек уже из простых защитных соображений склонен отводить глаза.
Все это заставляет думать о названных текстах как о ростках — сильных, жизнеспособных — «литературы травмы»: травмы не как того, что должно быть и может быть исцелено, но как коренного свойства человека, в каком-то смысле — как условия самой его человечности. О литературе «болевого зрения». А тем самым — и о расширении области культурной восприимчивости.

Яна Семёшкина
Проблема подросткового чтения активно переходит из педагогики в поле маркетинга и социологии. Сегодня мы наблюдаем настоящий взрыв интереса к представителям поколения Z, тем, кто родился после 1996 года. Generationtrouble, или поколенческая тревога — если перефразировать современную исследовательницу Джудит Батлер — становится актуальной темой не только для журналистов и HR — специалистов, это еще и новый академический тренд. Важно понять, что именно за ним стоит: маркетинговый ход или вынужденная реакция на что-то действительно новое, происходящее с молодежью?
Judith Butler. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. NY.: Routledge, 1990.
Поколение Z называют digitalnatives — первыми «цифровыми аборигенами» (в то время как Y — цифровые мигранты). Они рождены в эпоху интернета и опережают в IT-грамотности не только преподавателей и родителей, но иногда и старших братьев-гиков. В каждом классе есть ученик, который разбирается в информатике лучше, чем его учитель. В сети любой школьник способен найти информацию, неизвестную педагогу. Это, в свою очередь, откладывает отпечаток на стиле потребление информации. «Зеты» не принимают подчинения, они выстраивают горизонтальную модель отношений с родителями, друзьями, учителями и что особенно важно — с текстом. Поэтому им так сложно воспринимать русскую классику, которую, по выражению Павла Басинского, школьные педагоги согласны скорее с почетом и скорбными лицами похоронить, чем согласиться на актуализацию Чехова и Достоевского в комиксах или радикальных театральных постановках Константина Богомолова.
Кандидат экономических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт в сфере социологии чтения Любовь Борусяк подтверждает намеченную тенденцию:
Кандидат экономических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт в сфере социологии чтения Любовь Борусяк подтверждает намеченную тенденцию:
Здесь и далее цитаты представляют собой комментарии специалистов и исследователей, взятые автором для статьи. – Ред.
Поколение Z всегда онлайн, 86% подростков, по данным исследования «TrifectaResearch», в течение дня не выпускают из рук смартфоны. В результате у «зетов» формируется нарастающая «раздерганность сознания». Общение онлайн, обновляемая лента новостей формируют поколенческий синдром — постоянный страх упустить что-то важное, пока ты не заглядывал в монитор компьютера. Подростки теряют способность длительной концентрации на чем-то, пребывая в ожидании уведомлений, сообщений и лайков.
«Мы говорим о поколении, которое выросло на гипертексте, — отмечает Андрей Лисицкий, директор московской библиотеки Достоевского, — они все время перескакивают с одного формата на другой и могут перемещаться по тексту в разные стороны. Для них характерна нелинейность и гибридность потребления информации из различных источников: книг, гаджетов, видео-блогов. Поколение Z — значительная часть аудитории нашей библиотеки в дневное время».
Любовь Борусляк считает, что бытование понятия «чтения» исчезает в классическом понимании.
«Под чтением сегодня понимается гораздо большее количество типов коммуникации. Прослушивание аудиокниги, просмотр кино или спектакля по литературному произведению — это тоже чтение. Даже знакомство с кратким содержанием перед уроком позиционируется как чтение», — отмечает эксперт.
Недостаток критического отношения к информации весьма характерен для Z. У них высокий уровень доверия к непроверенным источникам, например, Википедии.
Однако они уже не так охотно реагируют на яркие образы — умение фильтровать информацию помогает им вычленять самую суть контента из информационного потока.
Социальные сети — основной источник информации, новостей, общения и развлечений. Новые медиа, которые органично живут на страницах соцсетей, воспринимаются Z гораздо лучше. Во многом потому, что это позволяет им участвовать в жизни СМИ — высказывать свою точку зрения в комментариях, ставить лайки и делать репосты, быть вовлеченными в процесс.
Преподаватель литературы в «Хорошколе», писатель и автор телеграмм-канала «Говорящий тростник» Артем Новиченков считает, что изменились не способы потребления информации, а процессы — от которых они зависят. Для получения удовольствия «игреки» шли в кинотеатр или брали в прокате видеокассету — прилагали активные усилия. С появлением интернета цепочка действий сократилась до одного клика. Доступней стала не только информация, но и сами удовольствия.
Однако они уже не так охотно реагируют на яркие образы — умение фильтровать информацию помогает им вычленять самую суть контента из информационного потока.
Социальные сети — основной источник информации, новостей, общения и развлечений. Новые медиа, которые органично живут на страницах соцсетей, воспринимаются Z гораздо лучше. Во многом потому, что это позволяет им участвовать в жизни СМИ — высказывать свою точку зрения в комментариях, ставить лайки и делать репосты, быть вовлеченными в процесс.
Преподаватель литературы в «Хорошколе», писатель и автор телеграмм-канала «Говорящий тростник» Артем Новиченков считает, что изменились не способы потребления информации, а процессы — от которых они зависят. Для получения удовольствия «игреки» шли в кинотеатр или брали в прокате видеокассету — прилагали активные усилия. С появлением интернета цепочка действий сократилась до одного клика. Доступней стала не только информация, но и сами удовольствия.
«Мы можем вырабатывать дофамин, просто кликнув мышкой по иконке youtube, включив любимый сериал или взяв джойстик в руки. Если информация требует от человека усилия, то у нее меньше шансов быть услышанной, стать массовой. С этим связана популярность соцсетей. Фишка в фрагментарности, в максимально быстрой скорости доставки» — полагает Артем.
Книга для поколения Z —это, прежде всего, акт самопрезентации. Важно не только прочесть книгу, но и выложить ее фото в Instagram. Книга, ориентированная на поколение Z, должна быть самодостаточным арт-объектом, этим обусловлен ренессанс комиксов. Digitalnatives любят, когда сложные вещи объясняются через визуальный ряд.
«"Зеты" провели большинство сознательной жизни уже после трагедии 11 сентября. Все сюжеты современной массовой культуры, которые нам предлагают Соединенные Штаты Америки (а именно они являются главным производителем сюжетов и медиаконтента в XXI веке), сводятся к истории 11 сентября. — отмечает Артем Новиченков. Возьмите "Мстителей", "Игру Престолов", весь "Netflix" строится по схеме: у нас была идиллия, но тут появились маньяки, инопланетяне, мистические существа — нужное подчеркнуть — и стало плохо. Дети, в том числе российские, всю свою сознательную жизнь проводят внутри одного и того же сюжета с супергероями и хэппи-эндом. Скажем, сюжет, который транслируется в русских сериалах: "сейчас плохо, но когда-нибудь будет хорошо" им не откликается, потому что он актуален для старшего поколения. В этом смысле наши дети ценностно больше ориентированы на Америку, чем на Россию».
Социологические исследования «Trifecta Research» показывают: роль бумажной книги как культурного носителя по-прежнему остается важной в современном обществе. Чтение становится все более элитарным занятием и здесь, по мнению Людмилы Борусяк, нет поколенческой тенденции:
«В этом вопросе социальные различия существенно важнее, чем поколенческие. Такой тип коммуникации как чтение формируется в семье. Есть интеллигентные семьи, где пытаются сформировать традиционный тип коммуникации с книгой, есть семьи менее благополучные, где дети проводят целые дни за компьютером. Традиционная образованная семья до сих пор прививает детям классический стиль коммуникации. Кроме того, вовлеченность в цифровые коммуникации возникает позже, чем первое взаимодействие с книгой. С раннего возраста родители читают детям сказки на ночь, и эта устная традиция до сих пор не изменилась».
«Книга становится статусным социальным объектом, который фиксирует определенное неравенство, — считает Андрей Лисицкий, — Бумажная книга — это социальный статус, атрибут интеллектуальной элитарности. Чтение позиционируется поколением Z как элитарное времяпрепровождение».
Артем Новиченков отмечает: «Мы до сих пор живем в христианской культуре, и книга остается сакральной. На фоне развития соцсетей и интернета она еще больше сакрализируется».
Круг чтения поколения Z строится вокруг бестселлеров «young-adult» литературы. Особым успехом пользуется «Гарри Поттер» и зарубежная литература XX века — романы Ремарка, Сэлинджера, Бредбэри, Экзюпери. Практически отсутствует зарубежная классика XIX века, за исключением сестер Бронте. Из русской прозы с интересом читают «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова и «Два капитана» Вениамина Каверина.
Современная школа продолжает успешно формировать представление о сверхценности русской классики. Однако практики чтения сильно расходятся с ценностями, считает Любовь Борусляк, в рамках исследования ею были опрошены 700 школьников. Опрос показал, что современных отечественных авторов большинство из учеников не читают, поскольку уверены, что они не соответствуют уровню классиков. Напротив, зарубежная литература популярна у подростков, так как не подлежит сравнению с русской классикой.
Процесс обучения у поколения Z проходит по отличному от миллениалов сценарию. Сошлемся на распространенные памятки для менеджеров из книги «Поколение Z на работе» Дэвида Стиллмана: пишите четко по пунктам, объясняйте внятно, говорите коротко. Дети поколения Z слушают новую информацию только 8 секунд. Устная задача должна состоять примерно из 25 слов и быть разбита на подгруппы. При этом лучше давать им задачу в виде комикса. Социолог Елена Омельченко отмечает, Z с детства захвалены родными и педагогами, у них, как правило, большое количество медалей и призов за образовательные победы: чтение стихов, образование, плавание, пение. Поэтому за все, что они сделали, они должны получать призы. Без похвал и поощрений они не могут ни работать, ни учиться. Нельзя подавать информацию в поучительной форме: их это быстро утомляет.
Современная школа продолжает успешно формировать представление о сверхценности русской классики. Однако практики чтения сильно расходятся с ценностями, считает Любовь Борусляк, в рамках исследования ею были опрошены 700 школьников. Опрос показал, что современных отечественных авторов большинство из учеников не читают, поскольку уверены, что они не соответствуют уровню классиков. Напротив, зарубежная литература популярна у подростков, так как не подлежит сравнению с русской классикой.
Процесс обучения у поколения Z проходит по отличному от миллениалов сценарию. Сошлемся на распространенные памятки для менеджеров из книги «Поколение Z на работе» Дэвида Стиллмана: пишите четко по пунктам, объясняйте внятно, говорите коротко. Дети поколения Z слушают новую информацию только 8 секунд. Устная задача должна состоять примерно из 25 слов и быть разбита на подгруппы. При этом лучше давать им задачу в виде комикса. Социолог Елена Омельченко отмечает, Z с детства захвалены родными и педагогами, у них, как правило, большое количество медалей и призов за образовательные победы: чтение стихов, образование, плавание, пение. Поэтому за все, что они сделали, они должны получать призы. Без похвал и поощрений они не могут ни работать, ни учиться. Нельзя подавать информацию в поучительной форме: их это быстро утомляет.
Чтение современного школьника: программное, свободное, проблемное. М.: Совпадение, 2016.
Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
Нынешние преподаватели в большинстве своем люди книжной культуры, они привыкли учиться и познавать жизнь через усвоение сложных текстов. Поэтому пытаются учить молодых так, как учились сами. Но школьники зачастую отказываются понимать длинные сложные тексты, они хотят получать весь смысл сразу, в готовом, нарезанном виде. Единственный решение: уходить от вертикали власти в школе, превращаясь из закрытого монастырского сообщества в поле эксперимента, где между учителем, автором и учеником выстраиваются приятельские, партнерские отношения, где Пушкин и Достоевский — это не идолы на школьных портретах, на которые можно смотреть только снизу-вверх, а в первую очередь собеседники и современники. Даже если их читают в комиксах. В конце концов, истинное величие классики состоит не в том, что она классика, а в том, что спустя двести с лишним лет она умудряется оставаться современностью.

Алексей Саломатин
«Мы окончательно разучились концентрироваться, — констатировал композитор Антон Батагов в беседе с Дмитрием Бавильским. — Если бы Бах все это увидел, да еще ему показали бы современный рекламный ролик или видеоклип, где один план длится доли секунды, он бы подумал, что оказался в аду. А Гульд подумал бы, что он в психушке».
О клиповом мышлении и постепенной утрате способности длительно фокусироваться на одном объекте в последние годы говорят часто и с нескрываемой тревогой. Правда, имея в виду, как правило, носителей обыденного сознания и потребителей низовой культуры. Однако и в пространстве культуры, которую принято называть высокой, дела давно обстоят не лучше, притом что общение с искусством требует от принимающей стороны, будь то слушатели симфоний или читатели поэзии, навыка воспринимать произведение не как более-менее произвольную сумму отдельных элементов, а как неделимую целокупность. В противном случае публика рискует оказаться в положении пресловутых слепых, ощупывающих слона. Очередная прописная, казалось бы, истина.
О клиповом мышлении и постепенной утрате способности длительно фокусироваться на одном объекте в последние годы говорят часто и с нескрываемой тревогой. Правда, имея в виду, как правило, носителей обыденного сознания и потребителей низовой культуры. Однако и в пространстве культуры, которую принято называть высокой, дела давно обстоят не лучше, притом что общение с искусством требует от принимающей стороны, будь то слушатели симфоний или читатели поэзии, навыка воспринимать произведение не как более-менее произвольную сумму отдельных элементов, а как неделимую целокупность. В противном случае публика рискует оказаться в положении пресловутых слепых, ощупывающих слона. Очередная прописная, казалось бы, истина.
Д. Бавильский. До востребования. Беседы с современными композиторами. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014.
Речь, впрочем, не столько о том, что квалифицированный читатель и слушатель нынче в абсолютном меньшинстве, сколько о том, что происходит в лагере деятелей культуры.
Давно уже не удивляет появление на страницах статусных изданий текстов — в столбик ли, в строчку, — рассыпающихся уже при черновом прочтении, или статей, изобилующих именами, сносками и цитатами, зачастую не имеющими к теме исследования никакого отношения. И дело — во всяком случае, не только — в невежестве или подтасовке фактов. Авторы, многие из которых изрядно образованны, добросовестно воспроизводят некую совокупность внешних признаков, в их представлении и являющуюся стихотворением или научной статьей, не задумываясь порою о функциональном назначении воспроизводимых элементов в системе целого.
Не так ли возводили свои соломенные аэропорты адепты карго-культа?..
Судя по всему, новое средневековье, которое мы, кажется, уже успели принять как должное, оказалось чересчур щадящим диагнозом. И переживаем мы не восстание масс и даже не нашествие варваров, а воскрешение человека архаического (увы, отнюдь не в смысле благородной античности).
Собственно говоря, торжествующий ныне в литературе и науке графоман и есть в первую очередь именно носитель архаического сознания, стремящийся через едва не ритуального характера имитацию образцов причаститься высокого канона (представления о каноне, разумеется, могут варьироваться в диапазоне от катренов с перекрестной рифмовкой и трехчастной академической статьи до асинтаксических верлибров и работ постструктуралистов). Он вовсе не обязательно бездарный неуч. Он вполне может быть начитан, эрудирован, даже остепенен. Он может быть возмутительно талантлив («Талант и графомания — понятия, не исключающие друг друга»). Он может быть ошеломляюще искусен в частностях, вот только цельномраморные телефоны-автоматы не звонят, а подкованные блохи не скачут.
Имитируются, естественно, не только литературные практики. С достойным лучшего применения тщанием воспроизводятся речевые характеристики, модели поведения, формы коммуникации и культурные формулы, профессиональные сообщества и институты… Соломенное царство механически воспроизводящихся означающих без означаемого ширится что ни день.
Царство — ужели слово найдено? Карго-культуры?
Давно уже не удивляет появление на страницах статусных изданий текстов — в столбик ли, в строчку, — рассыпающихся уже при черновом прочтении, или статей, изобилующих именами, сносками и цитатами, зачастую не имеющими к теме исследования никакого отношения. И дело — во всяком случае, не только — в невежестве или подтасовке фактов. Авторы, многие из которых изрядно образованны, добросовестно воспроизводят некую совокупность внешних признаков, в их представлении и являющуюся стихотворением или научной статьей, не задумываясь порою о функциональном назначении воспроизводимых элементов в системе целого.
Не так ли возводили свои соломенные аэропорты адепты карго-культа?..
Судя по всему, новое средневековье, которое мы, кажется, уже успели принять как должное, оказалось чересчур щадящим диагнозом. И переживаем мы не восстание масс и даже не нашествие варваров, а воскрешение человека архаического (увы, отнюдь не в смысле благородной античности).
Собственно говоря, торжествующий ныне в литературе и науке графоман и есть в первую очередь именно носитель архаического сознания, стремящийся через едва не ритуального характера имитацию образцов причаститься высокого канона (представления о каноне, разумеется, могут варьироваться в диапазоне от катренов с перекрестной рифмовкой и трехчастной академической статьи до асинтаксических верлибров и работ постструктуралистов). Он вовсе не обязательно бездарный неуч. Он вполне может быть начитан, эрудирован, даже остепенен. Он может быть возмутительно талантлив («Талант и графомания — понятия, не исключающие друг друга»). Он может быть ошеломляюще искусен в частностях, вот только цельномраморные телефоны-автоматы не звонят, а подкованные блохи не скачут.
Имитируются, естественно, не только литературные практики. С достойным лучшего применения тщанием воспроизводятся речевые характеристики, модели поведения, формы коммуникации и культурные формулы, профессиональные сообщества и институты… Соломенное царство механически воспроизводящихся означающих без означаемого ширится что ни день.
Царство — ужели слово найдено? Карго-культуры?
Г. Иванов. Собр. соч. в 3-х тт. Т. 1. М.: Согласие, 1994. С. 495.

Николай Подосокорский
В апреле мы едва не лишились одного из наиболее заметных русских писателей последних 15 лет — Дмитрия Быкова. Относиться к нему можно по-разному, но он, безусловно, принадлежит к числу ключевых фигур отечественного литературного процесса. К тому же Быков своей разносторонней деятельностью немало содействует популяризации литературы и чтения, порой заменяя собой целый институт. Его госпитализация всколыхнула соцсети, в очередной раз указав на то, что незаменимые люди в России очень даже есть.
Открыли свои первые сезоны новые литературные премии — «Поэзия», пришедшая на смену премии «Поэт», «Неистовый Виссарион» и «Блог-пост». В первой критике посвящена одна из номинаций, вторая специально создана для поощрения талантливых критиков, а третья вручается сетевым обозревателям за лучший книжный блог года.
Открыли свои первые сезоны новые литературные премии — «Поэзия», пришедшая на смену премии «Поэт», «Неистовый Виссарион» и «Блог-пост». В первой критике посвящена одна из номинаций, вторая специально создана для поощрения талантливых критиков, а третья вручается сетевым обозревателям за лучший книжный блог года.
Думаю, чем дальше, тем больше внимания будет уделяться онлайн-критике в новых медиа. В этот тренд вписывается и новая номинация для просветительских интернет-проектов «Просветитель.Digital», созданная в рамках авторитетной премии «Просветитель».
Продолжает деградировать некогда славный Русский ПЕН-центр, лучшие годы которого пришлись на директорство Александра Ткаченко (1994−2007). Нынешний президент этого писательского объединения Евгений Попов решил преобразовать национальное отделение Международного ПЕН-клуба в «Региональную общественную организацию писателей г. Москвы» с тем же самым названием. Его зову последовали две сотни членов прежнего Русского ПЕН-центра, а остальные 136 отказались писать заявления о вступлении в «региональный» псевдоПЕН. Среди тех, кто не стал ввязываться в подобную очередную авантюру, такие известные литераторы, как Михаил Жванецкий, Максим Амелин, Татьяна Толстая, Олег Чухонцев, Юлий Ким, Юрий Арабов, Андрей Волос, Ион Друцэ, Александр Кушнер, Юрий Орлицкий, Людмила Петрушевская и др. Второй крупный раскол в Русском ПЕН-центре, пришедшийся на его 30-летие, способен окончательно похоронить эту организацию.
Из курьезов можно выделить новость о том, что одна из школ Барселоны отказалась от изучения школьниками младших классов хрестоматийных сказок «Красная шапочка» и «Спящая красавица» по причине того, что они насквозь пропитаны сексизмом. В ходе проверки комиссия из отборщиков и родителей пришла к неутешительному выводу, что порядка 30% детских книг пропагандируют «токсичные отношения», 60% из них содержат менее серьезные проблемы и только 10% литературы для детей соблюдают все гендерные аспекты. В это время в польском городе Кошалин католические священники устроили сожжение книг, «пропагандирующих магию». В числе прочих в костре оказалась и вторая книга из всемирно знаменитой эпопеи Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и тайная комната».
5 апреля исполнилось 70 лет памятному собранию в Ленинградском государственном университете, после которого с филологического факультета были уволены четыре профессора, составлявшие славу вуза: Борис Эйхенбаум, Григорий Гуковский, Марк Азадовский и Виктор Жирмунский. Единственным, кто тогда выступил в их защиту, был пушкинист Николай Мордовченко (1904 -1951). Литературовед Марк Качурин посвятил этому событию стихотворение, где есть и такие строки:
Продолжает деградировать некогда славный Русский ПЕН-центр, лучшие годы которого пришлись на директорство Александра Ткаченко (1994−2007). Нынешний президент этого писательского объединения Евгений Попов решил преобразовать национальное отделение Международного ПЕН-клуба в «Региональную общественную организацию писателей г. Москвы» с тем же самым названием. Его зову последовали две сотни членов прежнего Русского ПЕН-центра, а остальные 136 отказались писать заявления о вступлении в «региональный» псевдоПЕН. Среди тех, кто не стал ввязываться в подобную очередную авантюру, такие известные литераторы, как Михаил Жванецкий, Максим Амелин, Татьяна Толстая, Олег Чухонцев, Юлий Ким, Юрий Арабов, Андрей Волос, Ион Друцэ, Александр Кушнер, Юрий Орлицкий, Людмила Петрушевская и др. Второй крупный раскол в Русском ПЕН-центре, пришедшийся на его 30-летие, способен окончательно похоронить эту организацию.
Из курьезов можно выделить новость о том, что одна из школ Барселоны отказалась от изучения школьниками младших классов хрестоматийных сказок «Красная шапочка» и «Спящая красавица» по причине того, что они насквозь пропитаны сексизмом. В ходе проверки комиссия из отборщиков и родителей пришла к неутешительному выводу, что порядка 30% детских книг пропагандируют «токсичные отношения», 60% из них содержат менее серьезные проблемы и только 10% литературы для детей соблюдают все гендерные аспекты. В это время в польском городе Кошалин католические священники устроили сожжение книг, «пропагандирующих магию». В числе прочих в костре оказалась и вторая книга из всемирно знаменитой эпопеи Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и тайная комната».
5 апреля исполнилось 70 лет памятному собранию в Ленинградском государственном университете, после которого с филологического факультета были уволены четыре профессора, составлявшие славу вуза: Борис Эйхенбаум, Григорий Гуковский, Марк Азадовский и Виктор Жирмунский. Единственным, кто тогда выступил в их защиту, был пушкинист Николай Мордовченко (1904 -1951). Литературовед Марк Качурин посвятил этому событию стихотворение, где есть и такие строки:
Не ведал я, как этот шаг был труден
И отчего в глазах такая мука.
Одно я понял: есть в России люди.
Есть подлинная русская наука.
И отчего в глазах такая мука.
Одно я понял: есть в России люди.
Есть подлинная русская наука.
10 апреля не стало мемуаристки Натальи Шмельковой — спутницы последних лет Венедикта Ерофеева. В книге Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний» о ней говорится следующее: «4 февраля 1987 года по приглашению Татьяны Щербины Ерофеев пришел на литературный вечер в московский Дом архитектора. „Мы выступали вчетвером: два прозаика, Витя Ерофеев и Женя Попов, два поэта — Лева Рубинштейн и я, а вел это все философ и литературовед Миша Эпштейн, — вспоминает Щербина. — Веничка пришел. Пришла и Наташа Шмелькова. Я с ней дружила, а с Ерофеевым они однажды встречались в компании, но он этого не помнил. Мы немного поговорили втроем, а выросла из этого целая love-story. Наташа стала вторым дыханием и фактически второй женой Венички“. „У меня есть самиздатские „Петушки“… так хотелось бы ваш автограф“ <…> „Пожалуйста, приезжайте, тем более, что жена моя сейчас в больнице“, — вспоминает Шмелькова свой диалог с Ерофеевым. „Она всегда, приходя, острила, рассказывала какие-нибудь такие байки, что он надрывался от хохота, — вспоминает о появлениях Натальи Шмельковой на Флотской улице Тамара Гущина. — Это сразу поднимало ему тонус. Он всегда любил посмеяться <…> В последние годы Наташа была единственным человеком, который приводил Веню в такое настроение, что он мог смеяться. Порой у него было депрессивное состояние. Одно время, когда Наташа не ездила к нему — Галина запретила, — он просил меня: „Тамара, уговори Галину, чтобы Наташа приезжала“. И она все-таки согласилась. Наташа была для него как лекарство“».
Наконец, порекомендую пять книжных новинок, которые меня зацепили:
1) Монография доктора исторических наук Бориса Илизарова «Сталин, Иван Грозный и другие», посвященная культуре сталинской эпохи.
2) Роман Алексея Иванова «Пищеблок» про пионеров-вампиров.
3) Сборник стихов Сергея Стратановского «Изборник: стихи 1968−2018».
4) Сборник «Кабаретные пьесы Серебряного века», подготовленный Норой Букс. Небольшой фрагмент из ее предисловия можно прочесть в моем блоге.
5) Сборник Михаила Хлебникова «Топор Негоро. Скитания европейских "реакционных" интеллектуалов в XX веке» — о философских изысканиях Ж. А. Сент-Ив д'Альвейдра, Р. Генона, А. Мёллера ван ден Брука, Э. Никиша, Э. Юнгера, А. де Бенуа.
Наконец, порекомендую пять книжных новинок, которые меня зацепили:
1) Монография доктора исторических наук Бориса Илизарова «Сталин, Иван Грозный и другие», посвященная культуре сталинской эпохи.
2) Роман Алексея Иванова «Пищеблок» про пионеров-вампиров.
3) Сборник стихов Сергея Стратановского «Изборник: стихи 1968−2018».
4) Сборник «Кабаретные пьесы Серебряного века», подготовленный Норой Букс. Небольшой фрагмент из ее предисловия можно прочесть в моем блоге.
5) Сборник Михаила Хлебникова «Топор Негоро. Скитания европейских "реакционных" интеллектуалов в XX веке» — о философских изысканиях Ж. А. Сент-Ив д'Альвейдра, Р. Генона, А. Мёллера ван ден Брука, Э. Никиша, Э. Юнгера, А. де Бенуа.
М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018.
М.: Вече, 2019.
М.: Редакция Елены Шубиной, 2018.
М.: ОГИ, 2018.
М.: Книгократия, 2019.

Санджар Янышев
Смотрю новейший американо-британский мини-сериал «Чернобыль» (режиссер Йохан Ренк). Про нас, про русских. Извините, что примазываюсь — могу и отмазаться. Есть в английском языке определение — a russian. Так говорят о человеке (любой национальности), который находится в состоянии постоянной депрессии, который видит мир исключительно в мрачных тонах. Человек-тромб.
Узнаёте? Нет, разумеется. Сами себя мы такими не видим. Мы — разные. Даже шутим иногда. Реже про себя, чаще про других. И подлавливаем их на нелепостях, и дурацкий акцент высмеиваем у играющих нас актеров. Например, какого черта они без конца дают «товарища». В СССР это слово не юзали с такой частотой, форм было гораздо больше: «женщина», «мужчина», «девушка», «молодой человек», «парень», имя-отчество, в конце концов.
Узнаёте? Нет, разумеется. Сами себя мы такими не видим. Мы — разные. Даже шутим иногда. Реже про себя, чаще про других. И подлавливаем их на нелепостях, и дурацкий акцент высмеиваем у играющих нас актеров. Например, какого черта они без конца дают «товарища». В СССР это слово не юзали с такой частотой, форм было гораздо больше: «женщина», «мужчина», «девушка», «молодой человек», «парень», имя-отчество, в конце концов.
Почему им никогда не приходит в голову нанять за три копейки консультанта, прожившего в России хотя бы лет 90? Он бы заодно имена героям подобрал — реальные, а не бутафорские. А то сплошь гомункулы, вроде Дятлова (здесь это не перевал, а замначальника атомной станции); либо коронованные кокошником экзотизмы (Топтунов, Акимов, Ульяна Хомюк); либо вообще страннозвучащие конструкты: Легасов, Пикалов, Брюханов.
Так думал я, пока смотрел первую серию «Чернобыля». Претензии росли — и тут же привычно выскакивали контраргументы (уж так устроен мой мозг). О том, что в производстве имен для персонажей мы сами не копенгагены. Скажем, автор шпионских бестселлеров Юлиан Семенов с именами героев особо не заморачивался. Поэтому даже «наши» у него подчас — какие-то никнеймы из шифрованных донесений: Константинов, Славин («ТАСС уполномочен заявить»)… А господа из «забугорья», судя по именам, — вообще лапчатые кентавры: Джон Глэбб, Пол Дик, Нельсон Грин, Дональд Джи…
Или вот, смотрю параллельно советскую тетралогию о «резиденте» (сценаристы О. Шмелев, В. Востоков). Имена иностранцев: Кинг, Апдайк, Мортимер, Стивенсон, Лоуренс… Мне одному тут мерещатся фамилии писателей и литературных персонажей?
…О, как я был посрамлен! Первый же запрос в гугле дал мне лица участников и ликвидаторов аварии — почти все они в «Чернобыле» подлинные: и Дятлов, и Пикалов, и даже Топтунов. Все — кроме Ульяны Хомюк из минского Института ядерной энергетики АН БССР (великолепная роль Эмили Уотсон).
Простите мне мое неведение, сгинувшие и выжившие. Когда произошла трагедия, я был тринадцатилетним, глупым, бессмертным — и жил за 3000 километров от Припяти; те облака приплыли ко мне гораздо позже. Журналист Тимур Олевский прав: за 33 года Чернобыль никуда не делся, он продолжается, и это не фигура речи. Об этом говорит главный герой фильма, замдиректора Курчатовского института атомной энергии Валерий Легасов (роль Джареда Харриса): «Большинство этих „пуль“ продолжит летать сотню лет, а некоторые — и пятьдесят тысяч лет». Такова природа атома — никогда не «мирного», поскольку именно он является роковым таймером, который жизнелюбивое человечество включило себе в качестве обратного отсчета.
Но, если хотите, можно и «фигурально»: радиация — это такая колоссальная метафора античного Аида, только без присущей мифам обратимости. Ты уже мертв, но все еще чего-то ждешь, куда-то бежишь, как герои другого фильма о чернобыльском ужасе — «В субботу». По мне — так более мощного, поскольку Александр Миндадзе даже не стал прибегать к треску дозиметра (который в «Чернобыле» Йохана Ренка служит опознавательным знаком смерти, весь саундтрек на нем держится); не показывал распад клеток человеческой плоти. При этом фильм насквозь пропитан радиацией, она визуализована через работу режиссера со временем, через вибрацию камеры — и монтажно.
«Чернобыль» воздействует иначе. Это классический фильм-катастрофа; но, в отличие от других образцов жанра, катастрофа тут не увенчивает фабулу, она фабулу создает. Ведь главное — не взрыв, а то, что он высвобождает и чему конца уже не будет. Мои учителя называли этот прием — «труп в трюме корабля».
Подстать ему и липкий абсурд, как нельзя лучше отвечающий месту действия: российской (пардон, советской) империи.
«Этого не может быть!» — лейтмотив первой половины фильма. Правда «Чернобыля» как художественного произведения в том, что люди врут не другим, они врут самим себе. Самая высокая квалификация, самая очевидная очевидность, даже явленная воочию смерть — тут бессильны. Большой дозиметр сгорел сразу после включения — «обычное дело». Принесли другой, он зашкалил — «чушь!». «Как можно получить такие цифры от воды из взорванного бака? — Никак. — Тогда какого хрена вы несете? — Там на земле лежит графит, кусками… — Вы не видели графита. — Видел! — Не видели. Не видели! Потому что его там нет!!! Я сам пойду на крышу блока, оттуда хорошо видно здание четвертого реактора, и все увижу собственными…» — не договорив, Дятлов блюет, его уносят. На крышу блока отправляют главного инженера. Под конвоем. Это он принес дурную весть — вот пусть и проверит ее на себе. Дальше все повторяется на уровне ЦК и правительства.
Абсурд не вытекает из незнания, абсурд — в самой основе системы, которую западный мир силится понять. И фильм прежде всего об этом. Носитель правды Валерий Легасов противопоставляет справедливый и разумный мир Чернобылю, в котором «не было ничего разумного; а было — во всем, даже в хорошем — безумие». Вся Россия — это Чернобыль. Выработанные миллионами лет природные механизмы, равно как и новейшие достижения цивилизации — тут одинаково не работают; накопленные ценности всякий раз обесценены.
Бессмыслен героический труд пожарников; бессмыслено водружение флага над трубой энергоблока (в знак победы над зверем), поскольку цена этого действия — еще две бесценные никому не нужные жизни. Символ не может бежать впереди целесообразности, а тут — может. И водка, которую здесь хлещут ВО СПАСЕНИЕ, называется «Галерная» (все верно, самообман — наши фирменные «русские галеры»). И шахтеры при рытье котлована обнажаются полностью: в морге одежка без надобности.
Роль главного «русского медведя» в фильме досталась министру энергетики, зампреду Совета Министров СССР, Борису Щербине (его играет любимый актер Триера, швед Стеллан-Скарсгорд). Малообразованный и взбалмошный, жестокий и ранимый, он воплощает тот русский характер, который долгие годы был жупелом для Запада, которого и сейчас опасаются во всем мире за алогичность и непредсказуемость. После того, как Легасов под страхом быть выброшенным из вертолета рассказывает Щербине принцип работы ядерного реактора, министр заявляет: «Теперь я знаю, как работает реактор. Вы мне не нужны». И зритель ждет: вот теперь Легасова точно выбросят из вертолета.
Однако именно Щербине принадлежит главная формула, прозвучавшая в разговоре с Ульяной Хомюк (о грядущем выступлении Легасова перед международным сообществом в Вене) и лежащая в основе всех наших национальных комплексов: «Вы предлагаете ему унизить нацию, которая одержима тем, чтобы не быть униженной».
Да, это не про то, что случилось с нами треть века назад. Это про сегодня.
Так думал я, пока смотрел первую серию «Чернобыля». Претензии росли — и тут же привычно выскакивали контраргументы (уж так устроен мой мозг). О том, что в производстве имен для персонажей мы сами не копенгагены. Скажем, автор шпионских бестселлеров Юлиан Семенов с именами героев особо не заморачивался. Поэтому даже «наши» у него подчас — какие-то никнеймы из шифрованных донесений: Константинов, Славин («ТАСС уполномочен заявить»)… А господа из «забугорья», судя по именам, — вообще лапчатые кентавры: Джон Глэбб, Пол Дик, Нельсон Грин, Дональд Джи…
Или вот, смотрю параллельно советскую тетралогию о «резиденте» (сценаристы О. Шмелев, В. Востоков). Имена иностранцев: Кинг, Апдайк, Мортимер, Стивенсон, Лоуренс… Мне одному тут мерещатся фамилии писателей и литературных персонажей?
…О, как я был посрамлен! Первый же запрос в гугле дал мне лица участников и ликвидаторов аварии — почти все они в «Чернобыле» подлинные: и Дятлов, и Пикалов, и даже Топтунов. Все — кроме Ульяны Хомюк из минского Института ядерной энергетики АН БССР (великолепная роль Эмили Уотсон).
Простите мне мое неведение, сгинувшие и выжившие. Когда произошла трагедия, я был тринадцатилетним, глупым, бессмертным — и жил за 3000 километров от Припяти; те облака приплыли ко мне гораздо позже. Журналист Тимур Олевский прав: за 33 года Чернобыль никуда не делся, он продолжается, и это не фигура речи. Об этом говорит главный герой фильма, замдиректора Курчатовского института атомной энергии Валерий Легасов (роль Джареда Харриса): «Большинство этих „пуль“ продолжит летать сотню лет, а некоторые — и пятьдесят тысяч лет». Такова природа атома — никогда не «мирного», поскольку именно он является роковым таймером, который жизнелюбивое человечество включило себе в качестве обратного отсчета.
Но, если хотите, можно и «фигурально»: радиация — это такая колоссальная метафора античного Аида, только без присущей мифам обратимости. Ты уже мертв, но все еще чего-то ждешь, куда-то бежишь, как герои другого фильма о чернобыльском ужасе — «В субботу». По мне — так более мощного, поскольку Александр Миндадзе даже не стал прибегать к треску дозиметра (который в «Чернобыле» Йохана Ренка служит опознавательным знаком смерти, весь саундтрек на нем держится); не показывал распад клеток человеческой плоти. При этом фильм насквозь пропитан радиацией, она визуализована через работу режиссера со временем, через вибрацию камеры — и монтажно.
«Чернобыль» воздействует иначе. Это классический фильм-катастрофа; но, в отличие от других образцов жанра, катастрофа тут не увенчивает фабулу, она фабулу создает. Ведь главное — не взрыв, а то, что он высвобождает и чему конца уже не будет. Мои учителя называли этот прием — «труп в трюме корабля».
Подстать ему и липкий абсурд, как нельзя лучше отвечающий месту действия: российской (пардон, советской) империи.
«Этого не может быть!» — лейтмотив первой половины фильма. Правда «Чернобыля» как художественного произведения в том, что люди врут не другим, они врут самим себе. Самая высокая квалификация, самая очевидная очевидность, даже явленная воочию смерть — тут бессильны. Большой дозиметр сгорел сразу после включения — «обычное дело». Принесли другой, он зашкалил — «чушь!». «Как можно получить такие цифры от воды из взорванного бака? — Никак. — Тогда какого хрена вы несете? — Там на земле лежит графит, кусками… — Вы не видели графита. — Видел! — Не видели. Не видели! Потому что его там нет!!! Я сам пойду на крышу блока, оттуда хорошо видно здание четвертого реактора, и все увижу собственными…» — не договорив, Дятлов блюет, его уносят. На крышу блока отправляют главного инженера. Под конвоем. Это он принес дурную весть — вот пусть и проверит ее на себе. Дальше все повторяется на уровне ЦК и правительства.
Абсурд не вытекает из незнания, абсурд — в самой основе системы, которую западный мир силится понять. И фильм прежде всего об этом. Носитель правды Валерий Легасов противопоставляет справедливый и разумный мир Чернобылю, в котором «не было ничего разумного; а было — во всем, даже в хорошем — безумие». Вся Россия — это Чернобыль. Выработанные миллионами лет природные механизмы, равно как и новейшие достижения цивилизации — тут одинаково не работают; накопленные ценности всякий раз обесценены.
Бессмыслен героический труд пожарников; бессмыслено водружение флага над трубой энергоблока (в знак победы над зверем), поскольку цена этого действия — еще две бесценные никому не нужные жизни. Символ не может бежать впереди целесообразности, а тут — может. И водка, которую здесь хлещут ВО СПАСЕНИЕ, называется «Галерная» (все верно, самообман — наши фирменные «русские галеры»). И шахтеры при рытье котлована обнажаются полностью: в морге одежка без надобности.
Роль главного «русского медведя» в фильме досталась министру энергетики, зампреду Совета Министров СССР, Борису Щербине (его играет любимый актер Триера, швед Стеллан-Скарсгорд). Малообразованный и взбалмошный, жестокий и ранимый, он воплощает тот русский характер, который долгие годы был жупелом для Запада, которого и сейчас опасаются во всем мире за алогичность и непредсказуемость. После того, как Легасов под страхом быть выброшенным из вертолета рассказывает Щербине принцип работы ядерного реактора, министр заявляет: «Теперь я знаю, как работает реактор. Вы мне не нужны». И зритель ждет: вот теперь Легасова точно выбросят из вертолета.
Однако именно Щербине принадлежит главная формула, прозвучавшая в разговоре с Ульяной Хомюк (о грядущем выступлении Легасова перед международным сообществом в Вене) и лежащая в основе всех наших национальных комплексов: «Вы предлагаете ему унизить нацию, которая одержима тем, чтобы не быть униженной».
Да, это не про то, что случилось с нами треть века назад. Это про сегодня.
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике