январь
Легкая кавалерия. Выпуск №1
Заметки, записки, посты
Заметки, записки, посты
Только звезды, только хардкор! Алексей Варламов, Ольга Славникова, Владимир Новиков, Александр Мелихов, Роман Сенчин, Алексей Сальников, Шамиль Идиатуллин, Андрей Волос, Андрей Аствацатуров, Дмитрий Воденников, Алиса Ганиева, Григорий Служитель. Если сблизить две метафоры, то сегодня у нас: «тяжелая артиллерия» выступает поддержанная жанром «легкой кавалерии». Говорят о литературе и о себе в литературе; о своем понимании того, зачем и для кого пишут; делятся воспоминаниями о том, как было, задумываясь далее, как будет (согласно известной формуле — воспоминание о будущем); а также о многом другом…
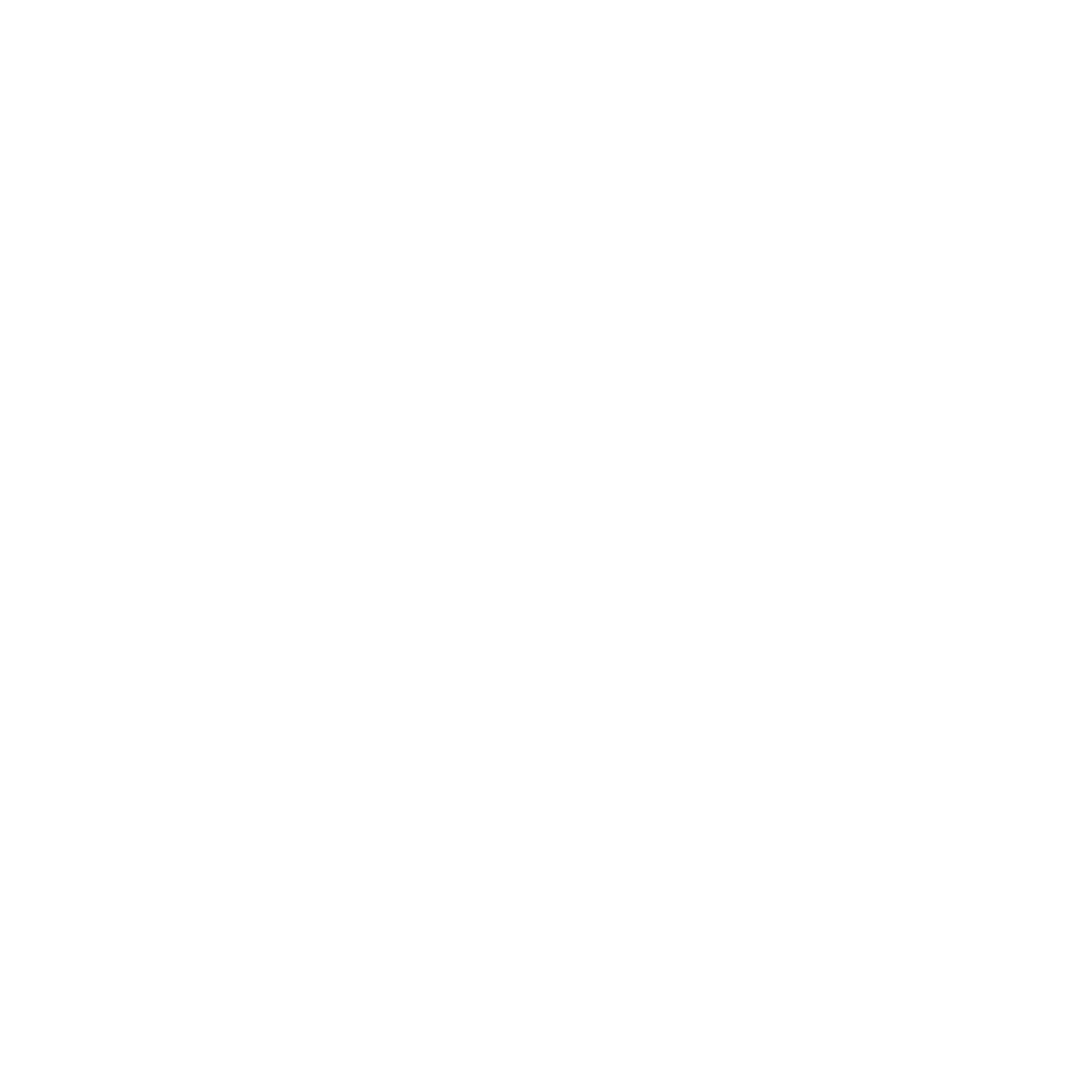
Алексей Варламов
В последнее время все чаще приходится слышать разговоры о том, как жили писатели в советские времена. Какие тогда были тиражи, гонорары, сколько платили за пьесы, за экранизации и сколько платят сейчас, и все сравнения не в пользу дня сегодняшнего. Психологически это очень понятно, и хотя того периода как писатель я практически не застал, все же мой первый гонорар за трехстраничный рассказ в 1987 году в журнале «Октябрь» превышал в два раза зарплату в университете, а первая книжка вышла тиражом сразу 75 тысяч. Но дело не только в цифрах, а в общей атмосфере. Была литературная жизнь, борьба, интриги, был бес партийности. Это я не к тому, что хотел бы вернуться в прошлое, а к тому, что сегодняшний день кажется мне в отношении литературы по-своему очень правильным и при этом, как все правильное, несколько скучным.
В самом деле, кто был главным врагом писателя в советское время? Цензура. Ее в литературе больше нет. Не хочу ничего идеализировать, и понятно, что на телевидении, например, ситуация иная и туда пускают далеко не всех, но литература — вольноотпущенница, и, думаю, даже самый оппозиционный, самый непримиримый писатель вряд ли сможет привести сегодня пример, как ему не позволили издать книгу, продавать ее в магазине или встречаться с читателями. Да, это скорее говорит не об отдельной исключительной территории книжной свободы — хотя по факту это именно так! — а о том, что литература сегодня властям не столь интересна. С другой стороны, что в этом плохого? Формула Некрасова «поэтом можешь ты не быть…» ушла в историю. Никто никому ничего не должен. Хочешь быть либералом — будь, хочешь быть патриотом — имеешь полное право, нравится тебе быть аполитичным — никто слова не скажет. Отсюда и роль толстых журналов. Раньше было очень важно, где ты печатаешься и против кого дружишь. А сегодня правые и левые несут свои книги мимо «толстяков» прямехонько в «Редакцию Елены Шубиной», и она решает, кого издавать, а кого нет, исходя явно не из политической конъюнктуры.
Дух партийности, групповщины, союзничества из литературы ушел, выветрился, хотя особо заинтересованные товарищи и пытаются его вновь создать. Но тщетно… Из колхоза или совхоза, каким литература была в советское время со всеми плюсами и минусами коллективизма, с его героями труда, передовиками производства, бригадами (деревенщики, горожане, военная проза, сорокалетние), литначальниками, отщепенцами, злостными прогульщиками, единоличниками, дезертирами и прочими, изящная словесность превратилась в россыпь хуторов и латифундий. У одного хозяина землицы больше, у другого меньше, у одних чернозем, у других зола, песок или вечная мерзлота, кто-то ее прикупает здесь или за границей, а кто-то вынужден продавать за бесценок и наниматься на телефабрику или устраиваться на госслужбу, одни свой товар импортируют, а чью-то продукцию нигде не берут, некоторые книги экранизируются, инсценируются, а другие пылятся на складах, но в целом жаловаться больше не на кого.
Сумел убедить издателя вложиться в твою книгу, сумел завоевать читателя, заинтересовать режиссера, продюсера, литературного агента — молодец, нет — сам виноват. Это немножко жестоко, но справедливо. И разве не об этом мечтали поколения русских писателей? Как там было у Булгакова, в его святочном рассказе «Воспоминание», где Ленин выводит любезную поэту формулу:
Дух партийности, групповщины, союзничества из литературы ушел, выветрился, хотя особо заинтересованные товарищи и пытаются его вновь создать. Но тщетно… Из колхоза или совхоза, каким литература была в советское время со всеми плюсами и минусами коллективизма, с его героями труда, передовиками производства, бригадами (деревенщики, горожане, военная проза, сорокалетние), литначальниками, отщепенцами, злостными прогульщиками, единоличниками, дезертирами и прочими, изящная словесность превратилась в россыпь хуторов и латифундий. У одного хозяина землицы больше, у другого меньше, у одних чернозем, у других зола, песок или вечная мерзлота, кто-то ее прикупает здесь или за границей, а кто-то вынужден продавать за бесценок и наниматься на телефабрику или устраиваться на госслужбу, одни свой товар импортируют, а чью-то продукцию нигде не берут, некоторые книги экранизируются, инсценируются, а другие пылятся на складах, но в целом жаловаться больше не на кого.
Сумел убедить издателя вложиться в твою книгу, сумел завоевать читателя, заинтересовать режиссера, продюсера, литературного агента — молодец, нет — сам виноват. Это немножко жестоко, но справедливо. И разве не об этом мечтали поколения русских писателей? Как там было у Булгакова, в его святочном рассказе «Воспоминание», где Ленин выводит любезную поэту формулу:
— Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке.
Только вот собрались мы третьего дня с писателями, лауреатами российско-итальянской премии «Москва — Пенне», в каминном зале ресторана Дома литераторов, и потекли воспоминания про колысь. Как раньше в этот дом приходили одни только члены Союза, как обмывали свои книги, а в самом каминном зале находился большой партком и тут вершились в прямом смысле этого слова писательские судьбы. Лет двадцать или даже десять тому назад ничего кроме ненависти к этому парткому и радости от того, что его больше нет, у меня бы не было, а сейчас я сидел, слушал, как хотели, например, исключить из КПСС убежденного монархиста Солоухина, но за него вступилась «русская партия» в ЦК, и думал, блин, как это было круто. Монархист, член КПСС, русская партия, мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать, да плюньте вы ему в его соленые рыжики, лучше займемся икотой… Где все это?
Советская литература, равно как и литература Серебряного века, сумела создать миф. Твардовский, Кочетов, бодался теленок с дубом, соцреализм, шестидесятники, «Метрополь», самиздат, тамиздат… Эту историю интересно изучать (менее интересно в ней жить), о ее героях любопытно писать и читать книги, дискутировать, искать архивные тайны, читать разнообразные мемуары, письма, дневники, а вызовет ли такой же интерес наше время? При том, что есть хорошие писатели, есть замечательные романы, но вокруг них нет легенды, интриги. Ее пытаются иногда создать искусственно, но фальшь становится сразу видна, старые приемы приедаются, и когда какая-то свежая мифология вдруг прорывается, это и ошарашивает, и радует.
Так, в уходящем году после того, как премию «Ясная Поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе, ко мне после церемонии вручения подошла одна дама и сказала со значительным видом:
— Ну понятно. Оттуда спустили указание.
— Откуда? — не понял я.
— Из Администрации Президента.
Поскольку я сам член жюри этой премии и на моих глазах происходило обсуждение длинного, а потом короткого списка, я мог ее легко опровергнуть, но подумал — зачем? Пусть хоть так, это ж прикольно. Администрация Президента, которой заниматься, наверное, больше нечем, читает романы, интригует, лоббирует, уговаривает внука Михаила Александровича Шолохова вручить победителю премию. Миф, однако…
Советская литература, равно как и литература Серебряного века, сумела создать миф. Твардовский, Кочетов, бодался теленок с дубом, соцреализм, шестидесятники, «Метрополь», самиздат, тамиздат… Эту историю интересно изучать (менее интересно в ней жить), о ее героях любопытно писать и читать книги, дискутировать, искать архивные тайны, читать разнообразные мемуары, письма, дневники, а вызовет ли такой же интерес наше время? При том, что есть хорошие писатели, есть замечательные романы, но вокруг них нет легенды, интриги. Ее пытаются иногда создать искусственно, но фальшь становится сразу видна, старые приемы приедаются, и когда какая-то свежая мифология вдруг прорывается, это и ошарашивает, и радует.
Так, в уходящем году после того, как премию «Ясная Поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе, ко мне после церемонии вручения подошла одна дама и сказала со значительным видом:
— Ну понятно. Оттуда спустили указание.
— Откуда? — не понял я.
— Из Администрации Президента.
Поскольку я сам член жюри этой премии и на моих глазах происходило обсуждение длинного, а потом короткого списка, я мог ее легко опровергнуть, но подумал — зачем? Пусть хоть так, это ж прикольно. Администрация Президента, которой заниматься, наверное, больше нечем, читает романы, интригует, лоббирует, уговаривает внука Михаила Александровича Шолохова вручить победителю премию. Миф, однако…
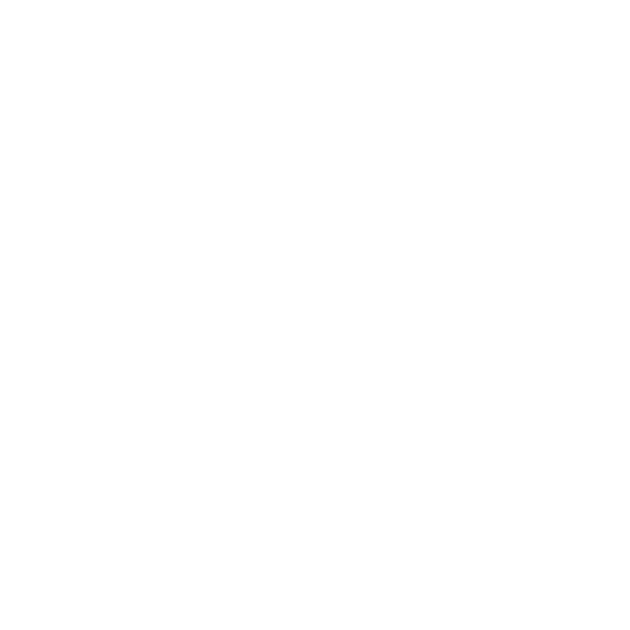
Александр Мелихов
Отсутствие системы распространения, жуткие торговые наценки, материальное и духовное оскудение библиотек и прочие прелести либерализации по-российски, разумеется, вполне значимые препятствия, мешающие читателям и писателям воссоединиться во взаимной любви и возросших тиражах. Однако первопричина наших бед — психологическая. Бед, впрочем, не столько наших, сколько читательских. Мы, писатели, свою долю жизненных радостей и смыслов все-таки получаем, а вот читатели остаются без зеркала, в котором они могли бы видеть свою жизнь высокой и значительной, благодаря которому они могли бы ощутить себя достойными воспевания не менее, чем Наташа и Андрей, Григорий и Аксинья. Жизнь, полностью лишенная красоты и значительности, даруемой искусством слова, попросту невозможна, люди понемногу вымерли бы от эстетического авитаминоза, они во все времена приукрашивают себя в разговорах и сплетнях.
Из всех искусств для нас важнейшим являются сплетни, когда-то написал я в «Исповеди еврея», но плоды этого искусства могут полностью удовлетворять лишь самых простейших. Более культурной публике требуется профессиональная эстетизация ее жизни, однако она, публика, на ее горе пребывает в плену ни на чем не основанного заблуждения, что настоящая литература почему-то исчезла вместе с исчезновением Советского Союза.
Разумеется, такого не бывает: талантливые люди рождаются всегда примерно в одинаковом количестве, и судьба их зависит от того, какими обманами их встретит мир — возвышающими или принижающими (а мир всегда живет грезами). И бывают эпохи, когда людям кажется, что писатели и поэты нечто вроде небожителей, что художники, как боги, входят в Зевсовы чертоги и, читая мысль его, видят в вечных идеалах то, что смертным в долях малых открывает божество (цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь). И, разумеется, каждый романтический юнец или юница стремятся попасть в эти чертоги, а общество старается заметить и выпестовать каждый росток таланта. Так и возникают всплески искусства, да и науки, ибо они питаются от одного и того же силового поля — от восхищения их достижениями и страстного ожидания новых достижений.
Я могу говорить об этом с полным знанием дела, ибо в середине 60-х я сам был захвачен силовым полем точных наук, которые до этого считал одним из многочисленных неизбежных зол. Но когда мне открылось, что физика и математика не концентрат неизвестно для чего придуманной тягомотины, а сверкающие чертоги на вершине уходящей в небеса горы, только тогда я засел за учебники, задачники, вышел в чемпионы области, в призеры Всесибирской олимпиады, поступил на ленинградский матмех, где тогда работали (надеюсь, работают и сейчас) несколько действительно великих ученых, а профессионалами высочайшего класса были просто-напросто все преподаватели. Это было аристократическое сообщество, в котором деньги и чины правящего миром жлобья не вызывали ничего кроме насмешки, а если бы кто-то заявил, что ценность имеет лишь то, что продается, то к презрению присоединили бы разве что гадливость. Слава эстрадных звезд вызывала, правда, несколько меньшее пренебрежение, чем портреты властителей: невежественный плебс все же заслуживал кое-какого снисхождения. Но даже самому тщеславному математику не приходило в голову желать, чтобы его узнавали на улице, — важно было только мнение знатоков. Вот если Колмогоров, в гроб сходя, пробормотал «Любопытно, любопытно…», — это воспоминание окрыляло до гробовой доски.
И когда сейчас мне приходится участвовать в литературных дискуссиях типа «Как вернуть читателей?», я вспоминаю о том, что я еще и математик: бывшим математиком быть так же невозможно, как бывшим пуделем. Ты несколько месяцев, а иногда и лет с перерывами размышляешь о какой-то проблеме и наконец получаешь восхищающий тебя результат. Отправляешься с докладом на соответствующий московский Олимп (туда попасть — уже успех), и тебя съезжается слушать вся Москва — человек восемь. Если двенадцать, это уже триумф. И если они тебя одобрят, ты на коне. Но если забракуют, тебе не поможет ничто. Ты можешь развесить рекламу в метро, можешь голым плясать на мавзолее, можешь выйти на площадь с лозунгом «Долой тиранов!» — их отношения к истине и красоте твоего труда это ничуть не изменит.
А если ты еще сумеешь как-то убедить в ценности своего сочинения профанов, то будешь навеки признан нерукопожатным: в аристократическом сообществе апелляция к толпе считается непростительным позором.
Вот именно этого принципа и не хватает аристократическому литературному сообществу. Борьба за премии, тиражи, телепередачи и есть та самая апелляция к толпе. Литературному сообществу, равно как и научному, пристали не демократические, но аристократические убеждения.
Разумеется, такого не бывает: талантливые люди рождаются всегда примерно в одинаковом количестве, и судьба их зависит от того, какими обманами их встретит мир — возвышающими или принижающими (а мир всегда живет грезами). И бывают эпохи, когда людям кажется, что писатели и поэты нечто вроде небожителей, что художники, как боги, входят в Зевсовы чертоги и, читая мысль его, видят в вечных идеалах то, что смертным в долях малых открывает божество (цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь). И, разумеется, каждый романтический юнец или юница стремятся попасть в эти чертоги, а общество старается заметить и выпестовать каждый росток таланта. Так и возникают всплески искусства, да и науки, ибо они питаются от одного и того же силового поля — от восхищения их достижениями и страстного ожидания новых достижений.
Я могу говорить об этом с полным знанием дела, ибо в середине 60-х я сам был захвачен силовым полем точных наук, которые до этого считал одним из многочисленных неизбежных зол. Но когда мне открылось, что физика и математика не концентрат неизвестно для чего придуманной тягомотины, а сверкающие чертоги на вершине уходящей в небеса горы, только тогда я засел за учебники, задачники, вышел в чемпионы области, в призеры Всесибирской олимпиады, поступил на ленинградский матмех, где тогда работали (надеюсь, работают и сейчас) несколько действительно великих ученых, а профессионалами высочайшего класса были просто-напросто все преподаватели. Это было аристократическое сообщество, в котором деньги и чины правящего миром жлобья не вызывали ничего кроме насмешки, а если бы кто-то заявил, что ценность имеет лишь то, что продается, то к презрению присоединили бы разве что гадливость. Слава эстрадных звезд вызывала, правда, несколько меньшее пренебрежение, чем портреты властителей: невежественный плебс все же заслуживал кое-какого снисхождения. Но даже самому тщеславному математику не приходило в голову желать, чтобы его узнавали на улице, — важно было только мнение знатоков. Вот если Колмогоров, в гроб сходя, пробормотал «Любопытно, любопытно…», — это воспоминание окрыляло до гробовой доски.
И когда сейчас мне приходится участвовать в литературных дискуссиях типа «Как вернуть читателей?», я вспоминаю о том, что я еще и математик: бывшим математиком быть так же невозможно, как бывшим пуделем. Ты несколько месяцев, а иногда и лет с перерывами размышляешь о какой-то проблеме и наконец получаешь восхищающий тебя результат. Отправляешься с докладом на соответствующий московский Олимп (туда попасть — уже успех), и тебя съезжается слушать вся Москва — человек восемь. Если двенадцать, это уже триумф. И если они тебя одобрят, ты на коне. Но если забракуют, тебе не поможет ничто. Ты можешь развесить рекламу в метро, можешь голым плясать на мавзолее, можешь выйти на площадь с лозунгом «Долой тиранов!» — их отношения к истине и красоте твоего труда это ничуть не изменит.
А если ты еще сумеешь как-то убедить в ценности своего сочинения профанов, то будешь навеки признан нерукопожатным: в аристократическом сообществе апелляция к толпе считается непростительным позором.
Вот именно этого принципа и не хватает аристократическому литературному сообществу. Борьба за премии, тиражи, телепередачи и есть та самая апелляция к толпе. Литературному сообществу, равно как и научному, пристали не демократические, но аристократические убеждения.
Способность воспринимать серьезную литературу, я думаю, такая же редкость, как хорошие математические способности, и наша задача вовсе не в том, чтобы нагрести как можно больше пустой породы, а в том, чтобы разыскать и связаться с таящимися в ней
крупинками золота.
крупинками золота.
Прежде всего для них, а не для нас. Мы должны протянуть руку помощи тем, кто рожден для радостей, даруемых серьезным чтением, но лишен их, обманутый завистливой антилитературной сказкой. Как это сделать — отдельная задача, но сразу ясно, что необходимо исключить деньги и шумиху, корысть и пошлость, которые превращают любую громкую и богатую премию в фабрику фальшивого золота.
Давно пора не ждать милости от власти или от рынка — и то и другое орудия плебса, а создавать собственную Аристократическую партию, чтобы отстаивать от черни то, в чем мы сами видим истину и красоту. Я не хочу здесь обсуждать, каким способом это можно сделать: когда поймем необходимость, придумаем и способ. Но связующим средством должно быть личное доверие. У каждого из нас есть несколько знакомых, чей ум и вкус мы уважаем, даже когда в чем-то расходимся. Они могли бы назвать несколько своих кандидатур — любопытно было бы для начала посмотреть, до каких пределов дотянется эта цепная реакция…
Давно пора не ждать милости от власти или от рынка — и то и другое орудия плебса, а создавать собственную Аристократическую партию, чтобы отстаивать от черни то, в чем мы сами видим истину и красоту. Я не хочу здесь обсуждать, каким способом это можно сделать: когда поймем необходимость, придумаем и способ. Но связующим средством должно быть личное доверие. У каждого из нас есть несколько знакомых, чей ум и вкус мы уважаем, даже когда в чем-то расходимся. Они могли бы назвать несколько своих кандидатур — любопытно было бы для начала посмотреть, до каких пределов дотянется эта цепная реакция…
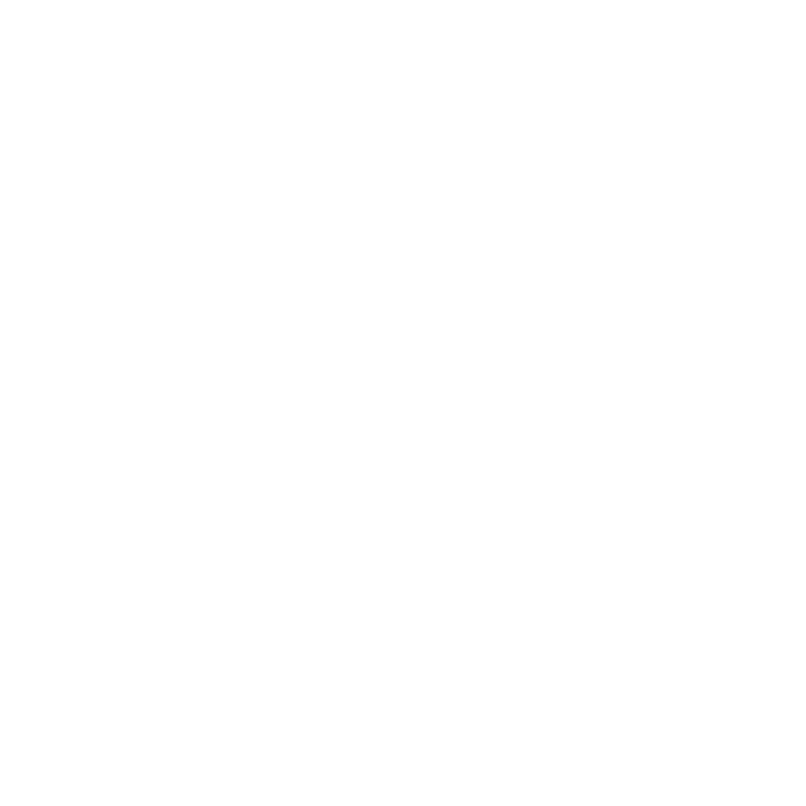
Алексей Сальников
Столько всего, что и не знаешь, за что хвататься. Вот эта волна читателей, что поставила с ног на голову или на бок поставила, или вообще перетряхивает все прежние представления о том, как читатель должен общаться с автором. Причем речь не только о литературе. Лет двадцать назад как было? Автор читает критика, глядит, все хорошо у него в тексте, ну, либо читает и видит, что все плохо. Или критик вовсе автора не видит в упор, и автор ощущает себя этаким призраком. Или, допустим, читатель покупает какой-нибудь журнал типа «ОМ», не знаю, «Медведь», что там еще было? «Премьер», «Хакер». Вообще, удивительно, в журналах про моду писали о кино, в журнале про кино — про литературу, в журнале про компьютеры — про моду, литературу и кино. Ну так вот, открываешь любой из таких журналов, а там, допустим, отзыв на книгу. Конечно, нужно бежать в магазин, покупать книжку, на которую отзыв, потому что если про нее в глянце написали, то как она может быть неинтересной?
И действительно, рекомендовали совсем неплохие книги. К примеру, «Философы с большой дороги» Тибора Фишера издания «АСТ», к которому бесплатно прилагалось ощущение того, как завинчены гайки, ах, ах, в то время, когда мы и понятия не имели, как их могут закрутить на самом деле.
В газете можно было почерпнуть, что читать. Например, в той же «Литературной газете».
Но вот, покупаешь, читаешь, советуешь друзьям — и все. Может, кому-то в голову приходила мысль написать письмо автору. Поделиться любовью. Поделиться неприязнью. Но в этом тоже был такой интимный момент. Третьи лица не видели этой переписки. А сейчас читатель может высказать все на публику, и другие могут это прочитать и разделить. Может добавиться в фейсбучные или вконтактовские друзья и высказать все, что накипело, — или набежать на чужой отзыв и устроить там сущий ад.
Разумеется, часто это просто порыв, часто — собственная амбиция, как в рассказе Шукшина «Срезал». Но почему бы и нет? Почему писатель может протащить читателя через некую историю, наполненную подчас ненужными подробностями, некими собственными комплексами, а читатель не может ответить, как ему было неловко за писателя в некоторые моменты этой самозабвенной игры? Тем более какая может быть тут сепарация? Сами же ну не всеми книгами довольны. И не только книгами.
Тут подходим ко второй штуке, которая имеется сейчас повсеместно, которая неимоверно захватывает. Это халтура в том, что можно назвать индустрией в целом. И литература еще вполне достойно выглядит на фоне всего остального, но все равно участвует во всей этой карусели безумного хайпа и молниеносного забвения. То есть, когда думаешь, вроде как хватит книжек, что-то не везет на них последние два месяца, пойду-ка я в кино. А затем, когда три часа и так и эдак ворочаясь в кресле кинотеатра, спрашиваешь себя, зачем, собственно, пошел на «Оно 2»? Зачем собрали всех этих актеров во всех этих сценах? Зачем наснимали эти душные приключения со спецэффектами? Понимаешь, что все происходящее — прямое следствие того, что Сапковский слил концовку «Ведьмака», Роулинг — концовку «Гарри Поттера», что труп терминатора насилуют уже какой раз подряд и можно было ожидать, что так произойдет и с «Оно», потому что множество интернет-ресурсов в лице неискушенных зрителей буквально вопили о том, что фильм не очень, но сам ты полез на некие более авторитетные порталы с рецензиями, а там фильм не сказать чтоб сильно ругали, говорили, что актер, игравший Пеннивайза, очень хорош и т. д.
Зато смотрите, как это все толкает к чтению! Да, книга может оказаться плохой. Но фильмы и сериалы-то еще хуже! Особенно насчет последнего люди начинают что-то понимать. Это вот нагнетание до последнего сезона, а затем решительный слив в канализацию после нескольких лет многообещающих сюжетных поворотов. Только-только что-нибудь мелькнет, да тут же и скатится. То же и с книжными сериалами. Как в этом плане прекрасен законченный роман, а еще лучше классическая вещь, про которую уже все заранее знаешь задолго до того, как приступишь к чтению, а если чего не понял, всегда можно прочитать еще и толкования. Иностранная литература тоже не всегда так хороша, как ее расписывают, когда очередной роман только издан. Он такой же, как наш, только иностранный, тоже подчас имеющий и скучные диалоги, и то, что можно считать лишним, и то, что у нас считают чернухой, только с местным колоритом, и все прочее.
Растет количество читателей, которые благодаря интернету не только получили доступ к огромному количеству книг, но и потребляют просто массу литературы без необходимости листать страницы, то есть в виде аудиокниг. Растет масса прочитанного таким способом. Поскольку есть возможность оставлять где-то отзывы, увеличивается и количество отзывов.
В газете можно было почерпнуть, что читать. Например, в той же «Литературной газете».
Но вот, покупаешь, читаешь, советуешь друзьям — и все. Может, кому-то в голову приходила мысль написать письмо автору. Поделиться любовью. Поделиться неприязнью. Но в этом тоже был такой интимный момент. Третьи лица не видели этой переписки. А сейчас читатель может высказать все на публику, и другие могут это прочитать и разделить. Может добавиться в фейсбучные или вконтактовские друзья и высказать все, что накипело, — или набежать на чужой отзыв и устроить там сущий ад.
Разумеется, часто это просто порыв, часто — собственная амбиция, как в рассказе Шукшина «Срезал». Но почему бы и нет? Почему писатель может протащить читателя через некую историю, наполненную подчас ненужными подробностями, некими собственными комплексами, а читатель не может ответить, как ему было неловко за писателя в некоторые моменты этой самозабвенной игры? Тем более какая может быть тут сепарация? Сами же ну не всеми книгами довольны. И не только книгами.
Тут подходим ко второй штуке, которая имеется сейчас повсеместно, которая неимоверно захватывает. Это халтура в том, что можно назвать индустрией в целом. И литература еще вполне достойно выглядит на фоне всего остального, но все равно участвует во всей этой карусели безумного хайпа и молниеносного забвения. То есть, когда думаешь, вроде как хватит книжек, что-то не везет на них последние два месяца, пойду-ка я в кино. А затем, когда три часа и так и эдак ворочаясь в кресле кинотеатра, спрашиваешь себя, зачем, собственно, пошел на «Оно 2»? Зачем собрали всех этих актеров во всех этих сценах? Зачем наснимали эти душные приключения со спецэффектами? Понимаешь, что все происходящее — прямое следствие того, что Сапковский слил концовку «Ведьмака», Роулинг — концовку «Гарри Поттера», что труп терминатора насилуют уже какой раз подряд и можно было ожидать, что так произойдет и с «Оно», потому что множество интернет-ресурсов в лице неискушенных зрителей буквально вопили о том, что фильм не очень, но сам ты полез на некие более авторитетные порталы с рецензиями, а там фильм не сказать чтоб сильно ругали, говорили, что актер, игравший Пеннивайза, очень хорош и т. д.
Зато смотрите, как это все толкает к чтению! Да, книга может оказаться плохой. Но фильмы и сериалы-то еще хуже! Особенно насчет последнего люди начинают что-то понимать. Это вот нагнетание до последнего сезона, а затем решительный слив в канализацию после нескольких лет многообещающих сюжетных поворотов. Только-только что-нибудь мелькнет, да тут же и скатится. То же и с книжными сериалами. Как в этом плане прекрасен законченный роман, а еще лучше классическая вещь, про которую уже все заранее знаешь задолго до того, как приступишь к чтению, а если чего не понял, всегда можно прочитать еще и толкования. Иностранная литература тоже не всегда так хороша, как ее расписывают, когда очередной роман только издан. Он такой же, как наш, только иностранный, тоже подчас имеющий и скучные диалоги, и то, что можно считать лишним, и то, что у нас считают чернухой, только с местным колоритом, и все прочее.
Растет количество читателей, которые благодаря интернету не только получили доступ к огромному количеству книг, но и потребляют просто массу литературы без необходимости листать страницы, то есть в виде аудиокниг. Растет масса прочитанного таким способом. Поскольку есть возможность оставлять где-то отзывы, увеличивается и количество отзывов.
Да, те люди, что шельмуют современную литературу, подчас с той же мерой подходят и к классикам, тоже как бы срывают покровы, с удовольствием лепят единицы за роман Тургеневу, Достоевскому, Толстому.
Но есть и другие читатели. Просто до нынешнего времени мы не слышали их голосов. Все оставалось в тех рамках, в каких все обвыклись. Происходящее сейчас ни хорошо, ни плохо. Оно просто непривычно. Этот процесс не заменяет ни экспертных оценок профессионалов (да, да, здесь можно закатить глаза и тяжело вздохнуть, потому что есть взгляд, что все мертво: литература, критика, филология, литературоведение и литературное образование, а еще издатель мертв, куплен и что-нибудь еще), ни привычного литпроцесса (которого тоже нет, разумеется).
Мы все до сих пор не изжили эту совершенно идиотскую привычку смотреть на происходящее как бы из башни, из-за некоторого забора писательской дачи, даже если и дачи никакой нет. С высоты стопки прочитанного, написанного. Может, отсюда все эти сетевые склоки, не делающие чести ни одной из сторон литературного спора? До сих пор не поняли, насколько тесно мы живем, насколько знаем друг друга. И при этом, как бы ни были враждебны друг другу, вот появление наивного чужака, которому ответить бы по-доброму, вовсе не отвечать, словом, быть более терпимым, так ведь нет — растет ветка или такого окармливания адепта, или стеба над незнакомцем. Очень красиво, знаете, видеть, как культурный человек относится к некультурному некультурно.
Мне кажется еще, что эти сетевые читательские высказывания сильны именно внетусовочностью. Не собираюсь ставить под сомнение авторитет современной критики, вот нисколько. Но что-то подсказывает, что отношения внутри нынешней литературной тусовки наверняка могут как-то влиять на то или иное критическое высказывание. Откуда знаю? Да по себе и знаю, что уж скрывать, насколько симпатия, антипатия могут искажать восприятие текста, насколько личное знакомство делает автора симпатичнее, чем автор абстрактный.
Похоже, стоит привыкать, что о литературе будет говорить все больше людей. Забавно повторяется история. За месяц до столетнего юбилея «Ликбеза» писать про что-то подобное по массовости, по потрясению устоев.
Мы все до сих пор не изжили эту совершенно идиотскую привычку смотреть на происходящее как бы из башни, из-за некоторого забора писательской дачи, даже если и дачи никакой нет. С высоты стопки прочитанного, написанного. Может, отсюда все эти сетевые склоки, не делающие чести ни одной из сторон литературного спора? До сих пор не поняли, насколько тесно мы живем, насколько знаем друг друга. И при этом, как бы ни были враждебны друг другу, вот появление наивного чужака, которому ответить бы по-доброму, вовсе не отвечать, словом, быть более терпимым, так ведь нет — растет ветка или такого окармливания адепта, или стеба над незнакомцем. Очень красиво, знаете, видеть, как культурный человек относится к некультурному некультурно.
Мне кажется еще, что эти сетевые читательские высказывания сильны именно внетусовочностью. Не собираюсь ставить под сомнение авторитет современной критики, вот нисколько. Но что-то подсказывает, что отношения внутри нынешней литературной тусовки наверняка могут как-то влиять на то или иное критическое высказывание. Откуда знаю? Да по себе и знаю, что уж скрывать, насколько симпатия, антипатия могут искажать восприятие текста, насколько личное знакомство делает автора симпатичнее, чем автор абстрактный.
Похоже, стоит привыкать, что о литературе будет говорить все больше людей. Забавно повторяется история. За месяц до столетнего юбилея «Ликбеза» писать про что-то подобное по массовости, по потрясению устоев.
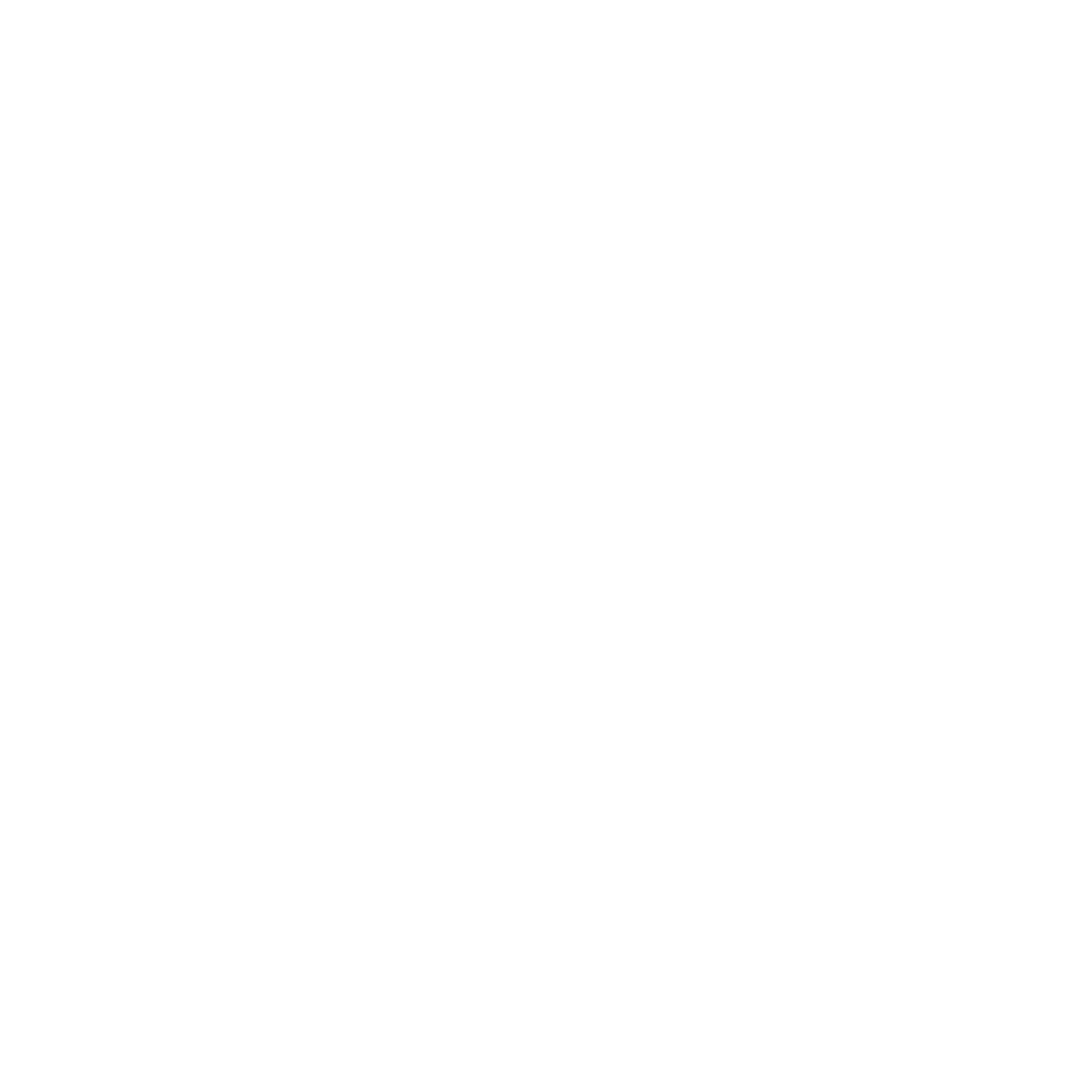
Ольга Славникова
Когда автор пишет текст (роман, рассказ, статью), он как бы обязан задать себе вопрос: кому нужен мой продукт?
Не надо задавать себе этого вопроса. Категорически нельзя. В нынешних наших литературных обстоятельствах вопрос о нужности текста равен парализующей инъекции. Соотносить свою потребность написать роман с чьей-либо гипотетической потребностью прочитать этот роман — значит убить и нерожденную книгу, и ту часть собственной личности, которая книгу пишет.
Причина проста: автора и читателя разделяет мощная мембрана, генерирующая разные виды активных искажений. И от качества текста, то есть от мастерства и таланта автора, видимая «нужность» книги практически не зависит. Кое-что определяет поведение автора: его активность в соцсетях, умение создать личный бренд. Но писатель и промоутер — разные профессии.
Не надо задавать себе этого вопроса. Категорически нельзя. В нынешних наших литературных обстоятельствах вопрос о нужности текста равен парализующей инъекции. Соотносить свою потребность написать роман с чьей-либо гипотетической потребностью прочитать этот роман — значит убить и нерожденную книгу, и ту часть собственной личности, которая книгу пишет.
Причина проста: автора и читателя разделяет мощная мембрана, генерирующая разные виды активных искажений. И от качества текста, то есть от мастерства и таланта автора, видимая «нужность» книги практически не зависит. Кое-что определяет поведение автора: его активность в соцсетях, умение создать личный бренд. Но писатель и промоутер — разные профессии.
Я веду в CWS мастерские с начинающими прозаиками. Все серьезно: мы работаем на результат. То есть у моих студентов в перспективе года-двух должны выходить книги. В ситуации, замечу, когда наблюдается перепроизводство названий, ментальное и складское затоваривание книжной продукцией. Но другого пути у автора нет. Если книгу не издать, то и следующую не напишешь. Это как спустить со стапелей корабль и разбить о борт бутылку шампанского. Только когда между берегом и кормой образуется достаточно воды, автор почувствует свободу завершить новый текст. Начинать новое надо, конечно, пока рукопись гуляет по издателям. Но финишировать в обнимку с неизданным невозможно — или требует такого сверхусилия, на какое не каждый способен. Самое худшее, что может произойти с прозаиком, — навсегда остаться на руинах романного долгостроя.
Я здесь рассуждаю не с точки зрения читателя или книжного обозревателя. То есть оставляю «нужность» за скобками. Мне важны и драгоценны литературные способности, которые могут расцвести, а могут истлеть. Последнее — суть бытийный урон для всех нас. На том стою, вопреки сокращению числа читателей и прокрустовой логике книжного рынка.
Однако, коль скоро книга вышла, вопрос о ее «нужности» встает автоматически. Заградительная мембрана (она живая) активируется и начинает показывать мультики. При этом не предполагается, что новинку вообще кто-нибудь прочел. Книга остается закрытой и не может защищаться. Слова книге не предоставляется. Вся суть кино — в обесценивании автора.
Напрасно я радовалась, когда издательство «Эксмо» согласилось сделать серию книг моих студентов. Вот, только что было все хорошо. Вышла первая ласточка — роман русского канадца Александра Дергунова «Элемент-68». До конца 2019-го предполагался выпуск еще двух романов. И уже готовились к спуску со стапелей романы на 2020-й, и закладывались корабли года 2021-го… Все кончилось быстро и абсурдно.
Позвонили и сказали, что книга Дергунова плохо продается. Серия закрыта. Точка.
При этом издательство не сделало ровно ничего, чтобы читатель хотя бы пару раз услышал слово «Дергунов». Никакой информации. Никаких рецензий. Критики, к которым я постфактум обратилась с просьбой заглянуть в роман, слыхом не слыхивали про этого автора, в бюллетенях, рассылаемых издательством (я тут могу ошибаться в терминологии, но не по сути), «Элемента-68» не было. Роман и в книжных магазинах не появился толком, так, мелькнул, оказавшись почему-то в разделе фантастики.
И в таких условиях книга должна была каким-то мистическим образом, проникнув сквозь тотальное молчание, сама себя продавать.
Новое имя. Никаких рефов. Читатель, именуемый здесь покупателем, любит поисковые запросы «Книга, похожая на…». Потому понятно, что новинка, опознаваемая по жанру или по тренду, продалась бы чуть лучше — ушло бы лишних экземпляров пятьсот. А роман Дергунова, в том-то и дело, ни на что не похож. Оригинальность (и да, сложный сюжет, медитативный язык) оказалась не достоинством, а недостатком книги.
И роман слили. Вроде был — и вроде не был. Мелькнул и растаял в тумане, будто Летучий голландец.
Какое кино в результате показали автору? Книга сама не продалась — кто виноват? Автор, само собой. Роман оказался недостаточно хорош, чтобы тираж разлетелся горячими пирожками, безо всяких усилий на то со стороны издательства. И автор с неизбежностью переносит эту оценку на литературные качества текста. Но литература тут вообще ни при чем. Роману не предоставили слова, потому что его не прочитали. Вот механизм обесценивания номер один.
Механизм номер два — это деятельность книжных обозревателей, как бы вставших на позиции читателей. А у читателя сегодня только права, обязанностей (развиваться, вникать, соотносить свой вкус с чем-то, что больше тебя) нет вообще. И обозреватели в этом смысле тоже только читатели. Работает критерий «ндра» и «не ндра». Возможно, тут в базе соотнесенность с интересами издателя, не случайно книжный обозреватель любое упоминание книги, даже и негативное, считает рекламой. Вижу одно: любая книга, независимо от литературного уровня, легко подвергается умолчанию. И здесь начинающего автора ждет разрыв шаблона. Он-то думал, что его похвалят, либо покритикуют за талант и продукт таланта. Что сделанные им в процессе письма волнующие открытия приблизят его к успеху. Ничего подобного. Никто не собирается его «открывать». И даже просто, физически, открывать дорогой его сердцу том.
Таким образом, вероятность превращения любой книги в корабль-призрак объективно высока. Есть такая уничижительная формулировка: факт выхода книги есть только факт биографии самого автора. Да, именно. Но вообще-то у автора и правда есть его единственная жизнь, которую он никому не должен. И если он родился с талантом, то да, его процессы, его деятельность настоятельно требуют выпускать книги. Надо понять и принять, что рукопись, ставшая книгой, может длительное время существовать по-прежнему на правах рукописи.
При этом у рукописи много суверенных, неотъемлемых прав. Право не гореть. Право не тонуть. Право таинственно дозревать и набирать смыслов — уже без участия автора, в углу на книжном складе, в пачках макулатуры, в нигде. Мудро поступает тот автор, который уважает свой неуспех.
Потому автору не стоит вестись на провокации. Вы не обязаны спрашивать себя — кому нужна моя книга. А если с вас это спросят, правильный ответ будет такой: моя книга нужна мне.
Я здесь рассуждаю не с точки зрения читателя или книжного обозревателя. То есть оставляю «нужность» за скобками. Мне важны и драгоценны литературные способности, которые могут расцвести, а могут истлеть. Последнее — суть бытийный урон для всех нас. На том стою, вопреки сокращению числа читателей и прокрустовой логике книжного рынка.
Однако, коль скоро книга вышла, вопрос о ее «нужности» встает автоматически. Заградительная мембрана (она живая) активируется и начинает показывать мультики. При этом не предполагается, что новинку вообще кто-нибудь прочел. Книга остается закрытой и не может защищаться. Слова книге не предоставляется. Вся суть кино — в обесценивании автора.
Напрасно я радовалась, когда издательство «Эксмо» согласилось сделать серию книг моих студентов. Вот, только что было все хорошо. Вышла первая ласточка — роман русского канадца Александра Дергунова «Элемент-68». До конца 2019-го предполагался выпуск еще двух романов. И уже готовились к спуску со стапелей романы на 2020-й, и закладывались корабли года 2021-го… Все кончилось быстро и абсурдно.
Позвонили и сказали, что книга Дергунова плохо продается. Серия закрыта. Точка.
При этом издательство не сделало ровно ничего, чтобы читатель хотя бы пару раз услышал слово «Дергунов». Никакой информации. Никаких рецензий. Критики, к которым я постфактум обратилась с просьбой заглянуть в роман, слыхом не слыхивали про этого автора, в бюллетенях, рассылаемых издательством (я тут могу ошибаться в терминологии, но не по сути), «Элемента-68» не было. Роман и в книжных магазинах не появился толком, так, мелькнул, оказавшись почему-то в разделе фантастики.
И в таких условиях книга должна была каким-то мистическим образом, проникнув сквозь тотальное молчание, сама себя продавать.
Новое имя. Никаких рефов. Читатель, именуемый здесь покупателем, любит поисковые запросы «Книга, похожая на…». Потому понятно, что новинка, опознаваемая по жанру или по тренду, продалась бы чуть лучше — ушло бы лишних экземпляров пятьсот. А роман Дергунова, в том-то и дело, ни на что не похож. Оригинальность (и да, сложный сюжет, медитативный язык) оказалась не достоинством, а недостатком книги.
И роман слили. Вроде был — и вроде не был. Мелькнул и растаял в тумане, будто Летучий голландец.
Какое кино в результате показали автору? Книга сама не продалась — кто виноват? Автор, само собой. Роман оказался недостаточно хорош, чтобы тираж разлетелся горячими пирожками, безо всяких усилий на то со стороны издательства. И автор с неизбежностью переносит эту оценку на литературные качества текста. Но литература тут вообще ни при чем. Роману не предоставили слова, потому что его не прочитали. Вот механизм обесценивания номер один.
Механизм номер два — это деятельность книжных обозревателей, как бы вставших на позиции читателей. А у читателя сегодня только права, обязанностей (развиваться, вникать, соотносить свой вкус с чем-то, что больше тебя) нет вообще. И обозреватели в этом смысле тоже только читатели. Работает критерий «ндра» и «не ндра». Возможно, тут в базе соотнесенность с интересами издателя, не случайно книжный обозреватель любое упоминание книги, даже и негативное, считает рекламой. Вижу одно: любая книга, независимо от литературного уровня, легко подвергается умолчанию. И здесь начинающего автора ждет разрыв шаблона. Он-то думал, что его похвалят, либо покритикуют за талант и продукт таланта. Что сделанные им в процессе письма волнующие открытия приблизят его к успеху. Ничего подобного. Никто не собирается его «открывать». И даже просто, физически, открывать дорогой его сердцу том.
Таким образом, вероятность превращения любой книги в корабль-призрак объективно высока. Есть такая уничижительная формулировка: факт выхода книги есть только факт биографии самого автора. Да, именно. Но вообще-то у автора и правда есть его единственная жизнь, которую он никому не должен. И если он родился с талантом, то да, его процессы, его деятельность настоятельно требуют выпускать книги. Надо понять и принять, что рукопись, ставшая книгой, может длительное время существовать по-прежнему на правах рукописи.
При этом у рукописи много суверенных, неотъемлемых прав. Право не гореть. Право не тонуть. Право таинственно дозревать и набирать смыслов — уже без участия автора, в углу на книжном складе, в пачках макулатуры, в нигде. Мудро поступает тот автор, который уважает свой неуспех.
Потому автору не стоит вестись на провокации. Вы не обязаны спрашивать себя — кому нужна моя книга. А если с вас это спросят, правильный ответ будет такой: моя книга нужна мне.
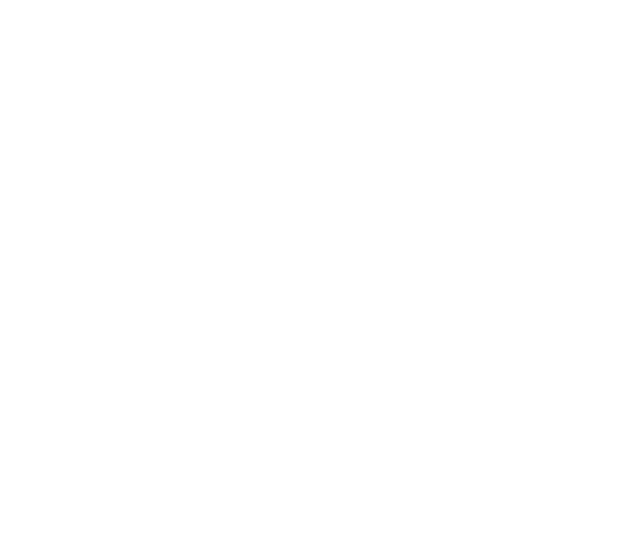
Владимир Новиков
«А мне это все безразлично. Лишь бы меня самого печатали». Так неосторожно обмолвился в кулуарном разговоре один из самых авторитетных прозаиков. Было это во время бурного писательского собрания времен перестройки и гласности. Многих тогда это шокировало, я же, грешным делом, подумал: имеет художник слова право на такую позицию. Живет один, идет дорогою свободной. Форсирует качество текста. А сиюминутные цеховые проблемы, как и политическая суета, — это для честных посредственностей, пылающих общественным пафосом.
Прошло примерно так тридцать лет и три года. Тот прозаик напечатал еще немало талантливых текстов и достойно завершил свой путь, творческий и жизненный. Мастера по-хорошему вспоминают близко его знавшие, уважают знатоки, но как-то не идет бессмертье косяком. Как и у целого поколения, ушедшего в историю. Принципиальный индивидуализм и высокомерный эстетизм обернулись невниманием со стороны читательского класса.
Прошло примерно так тридцать лет и три года. Тот прозаик напечатал еще немало талантливых текстов и достойно завершил свой путь, творческий и жизненный. Мастера по-хорошему вспоминают близко его знавшие, уважают знатоки, но как-то не идет бессмертье косяком. Как и у целого поколения, ушедшего в историю. Принципиальный индивидуализм и высокомерный эстетизм обернулись невниманием со стороны читательского класса.
А уж почти всем, кто вступил в литературу недавно, теплоты живого, не «организованного» людского интереса не досталось изначально. Каждый в одиночку бьется за свое скромное литературное имя, не позволяя себе роскоши отстаивать еще чьи-то литературные имена. Вспоминается одна из «букеровских» конференций, проведенных Игорем Шайтановым. Выступавший в самом начале Александр Кабаков предпринял удачную провокацию: современному роману, говорит, не хватает «романов» в сюжете, то есть любовных историй. Один за другим встают оскорбленные романисты и заявляют: неправда, у меня любовной сюжетики предостаточно. И нет чтобы кто-то привел как положительный пример не себя, а коллегу, а тот бы ему ответил аналогичной любезностью. Нет, для большинства современных литераторов чужие имена — табу. Понятно, что момент ревности и даже зависти — в самой писательской природе, но все-таки в прежние времена было принято обуздывать свое ближнезлобие — во имя верности общему литературному делу. Один человек не может заменить собою всю литературу — даже если он плодовит и универсален, как Дмитрий Быков. А Быков, кстати, являет собой в этом смысле отрадное исключение — истинный гражданин литературы, он постоянно говорит и пишет о братьях-писателях: то тепло, то прохладно, причем и то и другое работает на популярность упоминаемого.
В целом же в российской литературной истории первое двадцатилетие ХХI века останется повестью о том, как наша словесность стремительно теряла остатки былого общественного значения, читательской популярности и внутренней творческой солидарности. Пообщаешься с народом, поинтересуешься его кругом чтения — и хочется честно сказать литературному сообществу финальной строкой из пародии Леонида Филатова на Евгения Евтушенко: «Все в порядке. Они про вас не знают НИ-ЧЕ-ГО!»
Роман Дэвида Лоджа «Nice Work», посвященный как раз теме «литература и жизнь», начинается с того, что директору завода сообщают: к вам сегодня придет в порядке шефства профессор английской литературы. Он переспрашивает: «English — what?» Читая это в середине 90-х годов, я от души смеялся и думал: ну, в России-то такое невозможно. У нас слово «литература» — национальный символ.
Но вот сегодня, бывая в учреждениях здравоохранения, иногда слышу от эскулапов, узревших в карточке место работы (МГУ): а что преподаете? И, получив ответ «литературу», — они отнюдь не оживляются, а один юный врач, помрачнев, вдруг изрек: «С литературой у меня проблема». То есть: не знает, не любит, не читает. Но ведь когда-то почтение к литературе было нормой, а уж медицина и словесность дружили и сотрудничали. У сегодняшних же медиков проблема не только с литературой, но и с речевой коммуникацией: они разговаривать с пациентами не умеют. Тут уже приходится говорить не только о «качестве текста», но и о качестве жизни.
Кстати, с пресловутым «качеством текста» дело сегодня обстоит неплохо. Я бы предложил считать его вполне удовлетворительным. За последние лет сорок-сорок пять оно выросло, что ощутимо для критиков-ветеранов с солидным стажем. Откроем любой нынешний толстый журнал и сравним его с журналом конца 70-х годов: уровень письма стал гораздо выше: вместо дежурной конъюнктуры — причастность к вечным культурным ценностям, вместо штампованного советского языка — изысканная полистилистика. А поэзия? Совсем недавно изучал список премии «Поэзия» в поисках «стихотворения года»: сто добротных произведений, претензий к «качеству текста» нет. И верлибры, и стихи метрически-рифмованные равно профессиональны. Наверное, есть еще не менее сотни таких же квалифицированных стихотворцев. Проблема только с читателем, который мог бы быть, но которого почему-то нет.
Современная русская литература угодила в информационную яму. Не буду повторять набивший оскомину тезис о кризисе критики — ведь уже и простая литературная журналистика сходит на нет.
В целом же в российской литературной истории первое двадцатилетие ХХI века останется повестью о том, как наша словесность стремительно теряла остатки былого общественного значения, читательской популярности и внутренней творческой солидарности. Пообщаешься с народом, поинтересуешься его кругом чтения — и хочется честно сказать литературному сообществу финальной строкой из пародии Леонида Филатова на Евгения Евтушенко: «Все в порядке. Они про вас не знают НИ-ЧЕ-ГО!»
Роман Дэвида Лоджа «Nice Work», посвященный как раз теме «литература и жизнь», начинается с того, что директору завода сообщают: к вам сегодня придет в порядке шефства профессор английской литературы. Он переспрашивает: «English — what?» Читая это в середине 90-х годов, я от души смеялся и думал: ну, в России-то такое невозможно. У нас слово «литература» — национальный символ.
Но вот сегодня, бывая в учреждениях здравоохранения, иногда слышу от эскулапов, узревших в карточке место работы (МГУ): а что преподаете? И, получив ответ «литературу», — они отнюдь не оживляются, а один юный врач, помрачнев, вдруг изрек: «С литературой у меня проблема». То есть: не знает, не любит, не читает. Но ведь когда-то почтение к литературе было нормой, а уж медицина и словесность дружили и сотрудничали. У сегодняшних же медиков проблема не только с литературой, но и с речевой коммуникацией: они разговаривать с пациентами не умеют. Тут уже приходится говорить не только о «качестве текста», но и о качестве жизни.
Кстати, с пресловутым «качеством текста» дело сегодня обстоит неплохо. Я бы предложил считать его вполне удовлетворительным. За последние лет сорок-сорок пять оно выросло, что ощутимо для критиков-ветеранов с солидным стажем. Откроем любой нынешний толстый журнал и сравним его с журналом конца 70-х годов: уровень письма стал гораздо выше: вместо дежурной конъюнктуры — причастность к вечным культурным ценностям, вместо штампованного советского языка — изысканная полистилистика. А поэзия? Совсем недавно изучал список премии «Поэзия» в поисках «стихотворения года»: сто добротных произведений, претензий к «качеству текста» нет. И верлибры, и стихи метрически-рифмованные равно профессиональны. Наверное, есть еще не менее сотни таких же квалифицированных стихотворцев. Проблема только с читателем, который мог бы быть, но которого почему-то нет.
Современная русская литература угодила в информационную яму. Не буду повторять набивший оскомину тезис о кризисе критики — ведь уже и простая литературная журналистика сходит на нет.
«Живу тускло, как в презервативе» — эти давние слова В. Б. Шкловского может сегодня повторить едва ли не каждый писатель.
В современной прессе для упоминания о конкретном труженике слова имеется ровно три информационных повода: юбилей писателя, его кончина и получение им премии. Потому не стану критиковать и премиальный процесс: при всех неизбежных издержках он в этом ряду наиболее эффективен.
Думаю, спасение писателей, тонущих в информационном океане, — задача еще и эстетическая. Выплывут те, для кого коммуникативный вектор станет способом обновления, преодоления художественной инерции. Посмотрите на прорыв, осуществленный Дмитрием Даниловым: после довольно герметичной прозы («Горизонтальное положение», «Описание города») он выстрелил в десятку своими пьесами. «Человек из Подольска» оказался и точнее, и глубже индивидуалистического мифа о «свободной личности в несвободном обществе». «Собачий лес» Александра Гоноровского сравнивают со Стивеном Кингом: что ж, ориентация на короля масскульта не повредила прозаику-интеллектуалу. А ощутимый читательский успех «Дней Савелия» Григория Служителя наводит на следующую мысль: не лучше ли написать вещь «простую», которая потом обнаружит свою неоднозначность, чем пыжиться и корпеть над глобальным замыслом, который потом обернется претенциозной пустышкой?
Наш друг В. Каверин (прошу напечатать именно так: это его литературное имя, без длинного «Вениамина»), чьи «Два капитана» сегодня на глазах переходят из разряда «детской литературы» в категорию высокой прозы, в 1954 году выступил на Втором съезде писателей — да так круто, что его потом к такой трибуне уже не подпускали. Вся дерзость, впрочем, была в конкретности и коммуникативности. Ни слова о себе самом, все больше за других заступался, за Булгакова да Тынянова. А закончил эффектным монологом, где каждый абзац начинался словами: «Я вижу литературу…» О будущей литературе шла речь.
В каверинском духе хочется закончить так: я вижу литературу, основанную на таком общении автора с читателем, которое не могут заменить другие виды искусства и самые современные информационные технологии.
И она придет. По непреложным законам литературной эволюции.
Думаю, спасение писателей, тонущих в информационном океане, — задача еще и эстетическая. Выплывут те, для кого коммуникативный вектор станет способом обновления, преодоления художественной инерции. Посмотрите на прорыв, осуществленный Дмитрием Даниловым: после довольно герметичной прозы («Горизонтальное положение», «Описание города») он выстрелил в десятку своими пьесами. «Человек из Подольска» оказался и точнее, и глубже индивидуалистического мифа о «свободной личности в несвободном обществе». «Собачий лес» Александра Гоноровского сравнивают со Стивеном Кингом: что ж, ориентация на короля масскульта не повредила прозаику-интеллектуалу. А ощутимый читательский успех «Дней Савелия» Григория Служителя наводит на следующую мысль: не лучше ли написать вещь «простую», которая потом обнаружит свою неоднозначность, чем пыжиться и корпеть над глобальным замыслом, который потом обернется претенциозной пустышкой?
Наш друг В. Каверин (прошу напечатать именно так: это его литературное имя, без длинного «Вениамина»), чьи «Два капитана» сегодня на глазах переходят из разряда «детской литературы» в категорию высокой прозы, в 1954 году выступил на Втором съезде писателей — да так круто, что его потом к такой трибуне уже не подпускали. Вся дерзость, впрочем, была в конкретности и коммуникативности. Ни слова о себе самом, все больше за других заступался, за Булгакова да Тынянова. А закончил эффектным монологом, где каждый абзац начинался словами: «Я вижу литературу…» О будущей литературе шла речь.
В каверинском духе хочется закончить так: я вижу литературу, основанную на таком общении автора с читателем, которое не могут заменить другие виды искусства и самые современные информационные технологии.
И она придет. По непреложным законам литературной эволюции.
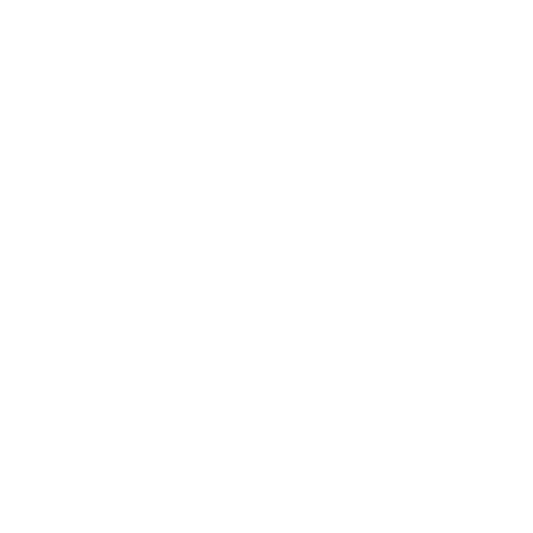
Андрей Волос
Когда-то я придумал поговорку, чтобы вложить в уста одному персонажу. И вложил, и очень даже ловко получилось. Он с тех пор так и выражается: в какой пиале ни подай, лишь бы чай был хорош.
Но если взглянуть на мою пословицу внимательно, понимаешь, что есть в ней намек на отсутствие брезгливости — вплоть до откровенной нечистоплотности. Выходит, пиала может быть щербатой, колотой, треснувшей? Даже нечистой? И более того — заразной? А ему, значит, до лампочки — «лишь бы чай был хорош»?
Абсурд, конечно. Не бывает ничего такого. Куда ни взгляни, всюду одно: значимое содержание требует соответствующего оформления.
То же, разумеется, и в литературе.
Но если взглянуть на мою пословицу внимательно, понимаешь, что есть в ней намек на отсутствие брезгливости — вплоть до откровенной нечистоплотности. Выходит, пиала может быть щербатой, колотой, треснувшей? Даже нечистой? И более того — заразной? А ему, значит, до лампочки — «лишь бы чай был хорош»?
Абсурд, конечно. Не бывает ничего такого. Куда ни взгляни, всюду одно: значимое содержание требует соответствующего оформления.
То же, разумеется, и в литературе.
Однако о литературных произведениях обычно рассуждают так, словно речь о научных статьях. Главное качество — информационная наполненность, а потому все уверены в правоте выдуманного мной речения. Оцениваются повороты сюжета, подача фактического материала, поступки персонажей, их мысли, историческая обоснованность или, напротив, безосновательность происходящего. О форме никто и не вспоминает. Ну ее. Какая разница? Все равно. В какой ни подай — по барабану.
В оправдание такой точки зрения отметим, что содержание литературного произведения и впрямь имеет определенное значение. И оно бывает разным.
Например, значительным. Даже огромным. Прямо-таки титаническим.
Или, наоборот, мелким. Неясным. Темным. Ничтожным. Оно фактически может даже вовсе отсутствовать.
Зато форма есть всегда. Именно она отвечает за то, что некоторым темным, ничтожным по содержанию речам невозможно внимать без волнения.
Кстати говоря, это волнение, а вовсе не объем передаваемой информации, и есть цель литературы. Равно как и цель всего искусства вообще. И главный критерий оценки явлений культуры. Есть волнение — ага! это уже вовсе не культуры явление, а самого Искусства. Нет волнения — извините, явление культуры наличествует, конечно… но об Искусстве и речи быть не может.
В постоянном споре между формой и содержанием литературного произведения, в бесконечной тяжбе, где каждая сторона преувеличивает свое значение, в конце концов побеждает форма.
Кладовые русской словесности битком набиты червонным золотом необязательных безделиц. Душа моя Павел, держись моих правил: люби то-то и то-то, не делай того-то. О чем это? Кажись, это ясно, однако при попытке передать смысл другими словами сокровища безнадежно тускнеют: пересказ обнаруживает ничтожность содержания. Говоря языком науки, мэсыдж не стоит выеденного яйца. Был перстенечек, из него вынули камушек, все пропало, в этом хламе смысла нет. Дело понятное, житейское. Но важно другое: большого смысла и в бывшей драгоценности отродясь не существовало.
С прозой дело обстоит иначе. Чуть иначе. Это «чуть» не носит качественного характера. Принцип остается прежним.
Говоря о романе Гузели Яхиной, я хочу обратить внимание именно на его форму.
Но перед тем хочешь не хочешь, а все же придется сказать пару слов о содержании.
Эти слова таковы: оно есть.
Кого-то, возможно, интересуют детали. На мой же взгляд, совершенно ни к чему рассуждать насчет того, что именно происходит в романе с фактической стороны дела, как его содержание соотносится с реальной жизнью, каким образом стыкуется с историей, данной нам в неподдельных документах и бесстрастных свидетельствах. Все это дело десятое. В литературном произведении может происходить что угодно и в каких угодно декорациях, начиная с битв между богами и титанами, кончая падениями девочек в кроличьи норы. Или, если угодно, наоборот — начиная норами, кончая богами: литература не арифметика, но все же от перемены мест суть дела не меняется, ведь речь идет о событиях одного порядка.
Истории в романе много — он весь, будто звериная шкура, натянут на несколько ее приметных колышков. Иной мог бы в связи с ее подачей высказать какие-нибудь претензии. Дескать, то, о чем толкует автор, в действительности было вовсе не так, а то не этак, чему есть неопровержимые свидетельства.
В ответ на такого рода инвективы можно только развести руками. Как объяснить, что литература и история пребывают в отношениях, похожих на те, в каких состоят вода и свет, на нее падающий: свет неизбежно преломляется.
История в общем-то не заботит автора. То есть он делает вид, что следует исторической канве, но на самом деле его волнуют совсем другие вещи. Это и правильно. Произведения биографического характера, каких в ряду великих мы знаем немало, способны нести в себе известную порцию некоторой исторической правды: автор не в силах от нее отказаться, поскольку правда эта принадлежит не столько его литературному произведению, сколько прожитой им жизни. Если же писатель берется за сюжет, удаленный от его души и памяти на некоторое расстояние времени, пространства и понимания, он, подобно художнику, пишущему очередной натюрморт, решает формальную задачу. Его дело — не свежесть фруктов, лежащих перед ним в качестве натуры, а живость рефлексов на полотне. Что является содержанием живописи, сколь историчной она ни будь? Не станем же мы тыкать в поклонение волхвов или возвращение с охоты и катание на ледяной реке, все это лишь ее сюжеты. Истинное содержание полотна — холст. Понятно, что холст не должен под кистью расползаться на нитки: чем он крепче, тем лучше для произведения в целом. Но в итоге нас интересует не качество холста, сколь бы гнилым или крепким он ни был, а только краски, нанесенные художником.
Заинтересованный литературой читатель отвернется от тайм-киллера, привычно вынуждающего следить за шаблонной рутиной калейдоскопических событий. Ему нужен иной текст. Автор которого не катился колобком от обычного начала к всегдашнему концу, а то и дело оказывался перед черной стеной, гибельно преграждающей путь. И был вынужден едва ли не каждым своим словом совершать все новые усилия в безнадежных попытках пробиться за. Конечно, он мог бы поискать лазейку, открытую кем-то до него, мог свернуть на тропу, проложенную теми, кто шел прежде. Но он не делал ничего похожего: ведь он занят литературой, а не чем-то вроде пошива брюк, которые всегда строчат по надежным лекалам.
Черная стена — непроглядная, неподатливая. Но только за ней — иные области, томимые мучительной луной. А может, и не томимые, точно неизвестно, ведь там еще никто не бывал.
Кто-нибудь непременно задастся вопросом — а в чем основная мысль романа? Если пожать плечами, последует второе вопрошение: да есть ли она вообще? Я должен успокоить взыскующих: есть, разумеется, есть. Но я не могу ее сформулировать. Как не сможет и сам автор, ибо эту мысль нельзя вместить в одно предложение. И в абзац нельзя, и даже в страницу. Чтобы ее выразить, автору пришлось создать целую книгу. Руководствуясь при этом — в главных ее мотивах — скорее музыкальными, нежели логическими законами.
Я совершенно не удивлюсь, если новый роман Гузели Яхиной «Дети мои» окажется за бортом всех российских премий. Потому что, во-первых, их и так не много осталось. Во-вторых, у нас не принято, за редкими исключениями, награждать одним и тем же дважды, а предыдущий уже был отмечен. И хоть второй, на мой взгляд, радикально лучше первого, сделанного не воротишь.
Так что в этом для меня не будет ничего странного.
Как не будет и в том случае, если окажется, что этой книге суждена большая судьба и широкая известность. Я даже не стану приводить аналогии, дабы не сглазить. На всякий случай.
В оправдание такой точки зрения отметим, что содержание литературного произведения и впрямь имеет определенное значение. И оно бывает разным.
Например, значительным. Даже огромным. Прямо-таки титаническим.
Или, наоборот, мелким. Неясным. Темным. Ничтожным. Оно фактически может даже вовсе отсутствовать.
Зато форма есть всегда. Именно она отвечает за то, что некоторым темным, ничтожным по содержанию речам невозможно внимать без волнения.
Кстати говоря, это волнение, а вовсе не объем передаваемой информации, и есть цель литературы. Равно как и цель всего искусства вообще. И главный критерий оценки явлений культуры. Есть волнение — ага! это уже вовсе не культуры явление, а самого Искусства. Нет волнения — извините, явление культуры наличествует, конечно… но об Искусстве и речи быть не может.
В постоянном споре между формой и содержанием литературного произведения, в бесконечной тяжбе, где каждая сторона преувеличивает свое значение, в конце концов побеждает форма.
Кладовые русской словесности битком набиты червонным золотом необязательных безделиц. Душа моя Павел, держись моих правил: люби то-то и то-то, не делай того-то. О чем это? Кажись, это ясно, однако при попытке передать смысл другими словами сокровища безнадежно тускнеют: пересказ обнаруживает ничтожность содержания. Говоря языком науки, мэсыдж не стоит выеденного яйца. Был перстенечек, из него вынули камушек, все пропало, в этом хламе смысла нет. Дело понятное, житейское. Но важно другое: большого смысла и в бывшей драгоценности отродясь не существовало.
С прозой дело обстоит иначе. Чуть иначе. Это «чуть» не носит качественного характера. Принцип остается прежним.
Говоря о романе Гузели Яхиной, я хочу обратить внимание именно на его форму.
Но перед тем хочешь не хочешь, а все же придется сказать пару слов о содержании.
Эти слова таковы: оно есть.
Кого-то, возможно, интересуют детали. На мой же взгляд, совершенно ни к чему рассуждать насчет того, что именно происходит в романе с фактической стороны дела, как его содержание соотносится с реальной жизнью, каким образом стыкуется с историей, данной нам в неподдельных документах и бесстрастных свидетельствах. Все это дело десятое. В литературном произведении может происходить что угодно и в каких угодно декорациях, начиная с битв между богами и титанами, кончая падениями девочек в кроличьи норы. Или, если угодно, наоборот — начиная норами, кончая богами: литература не арифметика, но все же от перемены мест суть дела не меняется, ведь речь идет о событиях одного порядка.
Истории в романе много — он весь, будто звериная шкура, натянут на несколько ее приметных колышков. Иной мог бы в связи с ее подачей высказать какие-нибудь претензии. Дескать, то, о чем толкует автор, в действительности было вовсе не так, а то не этак, чему есть неопровержимые свидетельства.
В ответ на такого рода инвективы можно только развести руками. Как объяснить, что литература и история пребывают в отношениях, похожих на те, в каких состоят вода и свет, на нее падающий: свет неизбежно преломляется.
История в общем-то не заботит автора. То есть он делает вид, что следует исторической канве, но на самом деле его волнуют совсем другие вещи. Это и правильно. Произведения биографического характера, каких в ряду великих мы знаем немало, способны нести в себе известную порцию некоторой исторической правды: автор не в силах от нее отказаться, поскольку правда эта принадлежит не столько его литературному произведению, сколько прожитой им жизни. Если же писатель берется за сюжет, удаленный от его души и памяти на некоторое расстояние времени, пространства и понимания, он, подобно художнику, пишущему очередной натюрморт, решает формальную задачу. Его дело — не свежесть фруктов, лежащих перед ним в качестве натуры, а живость рефлексов на полотне. Что является содержанием живописи, сколь историчной она ни будь? Не станем же мы тыкать в поклонение волхвов или возвращение с охоты и катание на ледяной реке, все это лишь ее сюжеты. Истинное содержание полотна — холст. Понятно, что холст не должен под кистью расползаться на нитки: чем он крепче, тем лучше для произведения в целом. Но в итоге нас интересует не качество холста, сколь бы гнилым или крепким он ни был, а только краски, нанесенные художником.
Заинтересованный литературой читатель отвернется от тайм-киллера, привычно вынуждающего следить за шаблонной рутиной калейдоскопических событий. Ему нужен иной текст. Автор которого не катился колобком от обычного начала к всегдашнему концу, а то и дело оказывался перед черной стеной, гибельно преграждающей путь. И был вынужден едва ли не каждым своим словом совершать все новые усилия в безнадежных попытках пробиться за. Конечно, он мог бы поискать лазейку, открытую кем-то до него, мог свернуть на тропу, проложенную теми, кто шел прежде. Но он не делал ничего похожего: ведь он занят литературой, а не чем-то вроде пошива брюк, которые всегда строчат по надежным лекалам.
Черная стена — непроглядная, неподатливая. Но только за ней — иные области, томимые мучительной луной. А может, и не томимые, точно неизвестно, ведь там еще никто не бывал.
Кто-нибудь непременно задастся вопросом — а в чем основная мысль романа? Если пожать плечами, последует второе вопрошение: да есть ли она вообще? Я должен успокоить взыскующих: есть, разумеется, есть. Но я не могу ее сформулировать. Как не сможет и сам автор, ибо эту мысль нельзя вместить в одно предложение. И в абзац нельзя, и даже в страницу. Чтобы ее выразить, автору пришлось создать целую книгу. Руководствуясь при этом — в главных ее мотивах — скорее музыкальными, нежели логическими законами.
Я совершенно не удивлюсь, если новый роман Гузели Яхиной «Дети мои» окажется за бортом всех российских премий. Потому что, во-первых, их и так не много осталось. Во-вторых, у нас не принято, за редкими исключениями, награждать одним и тем же дважды, а предыдущий уже был отмечен. И хоть второй, на мой взгляд, радикально лучше первого, сделанного не воротишь.
Так что в этом для меня не будет ничего странного.
Как не будет и в том случае, если окажется, что этой книге суждена большая судьба и широкая известность. Я даже не стану приводить аналогии, дабы не сглазить. На всякий случай.
10 декабря 2019 года стало известно, что роман Гузели Яхиной получил третье место премии «Большая книга». – Ред.
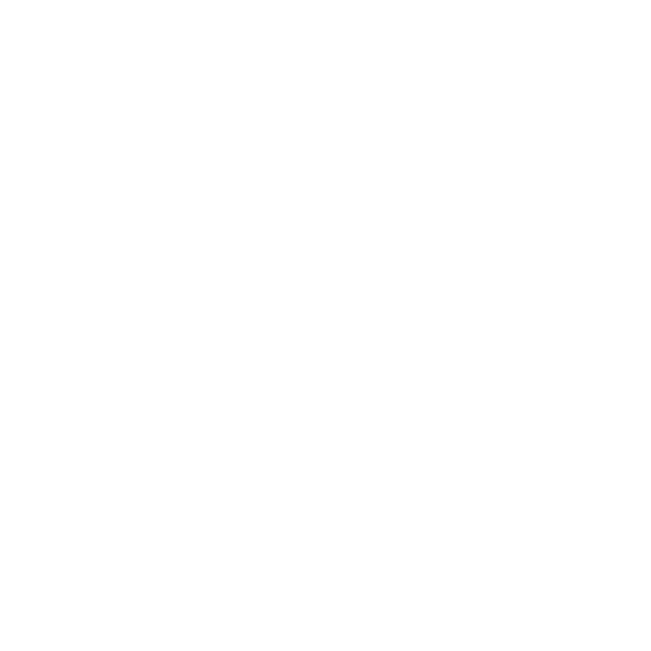
Роман Сенчин
Недавно в Питере мне подарили книгу. Петр Разумов, «Срок — сорок».
Об авторе, прошу меня извинить, я ничего не знал, и до сих пор не заглядываю в интернет, поэтому не знаю, вымысел его книга или нет. Но ощущение предельной автобиографичности, достоверности очень стойкое.
По сути, это ощущение и есть самое важное в прозе. Фантазировать — полезнейшее свойство для литератора. Правда, большинство фантазирует так, что читатели сразу понимают: такого не было и не могло быть. Касается это не столько фантастики и фэнтези, сколько так называемой реалистической прозы. Реализм ведь тоже бывает недостоверным, и еще как бывает.
У нас тут не место для рецензий, и я не буду писать рецензию. Хочу обратить внимание на автобиографическую, документальную прозу.
Об авторе, прошу меня извинить, я ничего не знал, и до сих пор не заглядываю в интернет, поэтому не знаю, вымысел его книга или нет. Но ощущение предельной автобиографичности, достоверности очень стойкое.
По сути, это ощущение и есть самое важное в прозе. Фантазировать — полезнейшее свойство для литератора. Правда, большинство фантазирует так, что читатели сразу понимают: такого не было и не могло быть. Касается это не столько фантастики и фэнтези, сколько так называемой реалистической прозы. Реализм ведь тоже бывает недостоверным, и еще как бывает.
У нас тут не место для рецензий, и я не буду писать рецензию. Хочу обратить внимание на автобиографическую, документальную прозу.
С-Пб.: Лимбус-пресс, 2019.
Когда критики характеризуют героя той или иной вещи словами: «Автор писал его с себя… Персонаж почти стопроцентно похож на автора», — мне хочется спросить их, критиков: «А откуда вы так хорошо знаете автора?»
Ощущение достоверности зачастую подменяет документальную точность. И это неплохо, это плюс.
Повторяю, что не знаком с биографией Петра Разумова. Может быть, он все — или почти все — придумал. А может, описал со всей возможной точностью свою жизнь. Впрочем, в любом случае не один в один. Он сам в этом признается: «К сожалению, я не могу рассказать ВСЕ. Во-первых, потому что боюсь обидеть людей, которые могут прочитать эту книгу. Во-вторых, есть вещи, уместные только в постели или туалете, которые можно рассказать аналитику, да и то бледнея и стесняясь. Вещество, из которого состоит большая литература, часто не давится. Это даже хорошо, потому что у меня в данный момент нет литературных амбиций. Я просто рассказываю свою жизнь подходящими словами, пусть просто, зато честно».
Да, в беллетристике (я отношусь к ней с уважением) можно многое написать глубже, рассмотреть то или иное явление внимательнее. Но редко когда беллетристическое произведение порождает у нас чувство достоверности. Редко мы по-настоящему сочувствуем героям. Герою же так называемой автобиографической, документальной прозы сочувствуем гораздо чаще.
Жизнь автора, вернее, героя «Срок — сорок», в общем-то, не изобилует удивительными событиями. Она не уникальна. И в то же время уникальна, как любая жизнь.
Я довольно часто вспоминаю слова Александра Герцена из предисловия журнальной публикации «Былого и дум»: «Для того, чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать. Всякая жизнь интересна; не личность — так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению… Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания».
«Былое и думы» — это, конечно, никакие не воспоминания, не мемуары. Это настоящая автобиографическая, документальная проза. Настоящая эпопея.
У Герцена немало произведений беллетристического характера. Почти все они забыты, а «Былое и думы» читаются и перечитываются. Хотя, строго говоря, в них нет ничего необыкновенного. Довольно типическая судьба мыслящего, пытающегося что-то полезное сделать для родины человека середины позапрошлого века, встречающего на своем пути других подобных людей, переезжающего из города в город, из страны в страну, то по своей охоте, то нет.
Но как интересно и полезно читать.
Да, именно эти два качества — «интересно и полезно» — для меня главные в литературе. Беллетристика часто бывает интересна, но бесполезна, а хорошая документальная книга, созданная автором на основе своей жизни или же мастерски имитирующая это, почти всегда полезна.
Правда, книг таких становится все меньше. Документальная проза чаще всего обращается в прошлое, в историю, автобиографию заменяют биографии. Представители нового реализма, лет пятнадцать назад пришедшие со своими человеческими документами и наделавшие немало шуму в литературном мирке, заставившие читателя, разуверившегося найти честное и близкое в современной прозе, вернуться к ней, нынче почти поголовно стали авторами серии «Жизнь замечательных людей». Словно их собственные жизни закончились.
Ощущение достоверности зачастую подменяет документальную точность. И это неплохо, это плюс.
Повторяю, что не знаком с биографией Петра Разумова. Может быть, он все — или почти все — придумал. А может, описал со всей возможной точностью свою жизнь. Впрочем, в любом случае не один в один. Он сам в этом признается: «К сожалению, я не могу рассказать ВСЕ. Во-первых, потому что боюсь обидеть людей, которые могут прочитать эту книгу. Во-вторых, есть вещи, уместные только в постели или туалете, которые можно рассказать аналитику, да и то бледнея и стесняясь. Вещество, из которого состоит большая литература, часто не давится. Это даже хорошо, потому что у меня в данный момент нет литературных амбиций. Я просто рассказываю свою жизнь подходящими словами, пусть просто, зато честно».
Да, в беллетристике (я отношусь к ней с уважением) можно многое написать глубже, рассмотреть то или иное явление внимательнее. Но редко когда беллетристическое произведение порождает у нас чувство достоверности. Редко мы по-настоящему сочувствуем героям. Герою же так называемой автобиографической, документальной прозы сочувствуем гораздо чаще.
Жизнь автора, вернее, героя «Срок — сорок», в общем-то, не изобилует удивительными событиями. Она не уникальна. И в то же время уникальна, как любая жизнь.
Я довольно часто вспоминаю слова Александра Герцена из предисловия журнальной публикации «Былого и дум»: «Для того, чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать. Всякая жизнь интересна; не личность — так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению… Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания».
«Былое и думы» — это, конечно, никакие не воспоминания, не мемуары. Это настоящая автобиографическая, документальная проза. Настоящая эпопея.
У Герцена немало произведений беллетристического характера. Почти все они забыты, а «Былое и думы» читаются и перечитываются. Хотя, строго говоря, в них нет ничего необыкновенного. Довольно типическая судьба мыслящего, пытающегося что-то полезное сделать для родины человека середины позапрошлого века, встречающего на своем пути других подобных людей, переезжающего из города в город, из страны в страну, то по своей охоте, то нет.
Но как интересно и полезно читать.
Да, именно эти два качества — «интересно и полезно» — для меня главные в литературе. Беллетристика часто бывает интересна, но бесполезна, а хорошая документальная книга, созданная автором на основе своей жизни или же мастерски имитирующая это, почти всегда полезна.
Правда, книг таких становится все меньше. Документальная проза чаще всего обращается в прошлое, в историю, автобиографию заменяют биографии. Представители нового реализма, лет пятнадцать назад пришедшие со своими человеческими документами и наделавшие немало шуму в литературном мирке, заставившие читателя, разуверившегося найти честное и близкое в современной прозе, вернуться к ней, нынче почти поголовно стали авторами серии «Жизнь замечательных людей». Словно их собственные жизни закончились.
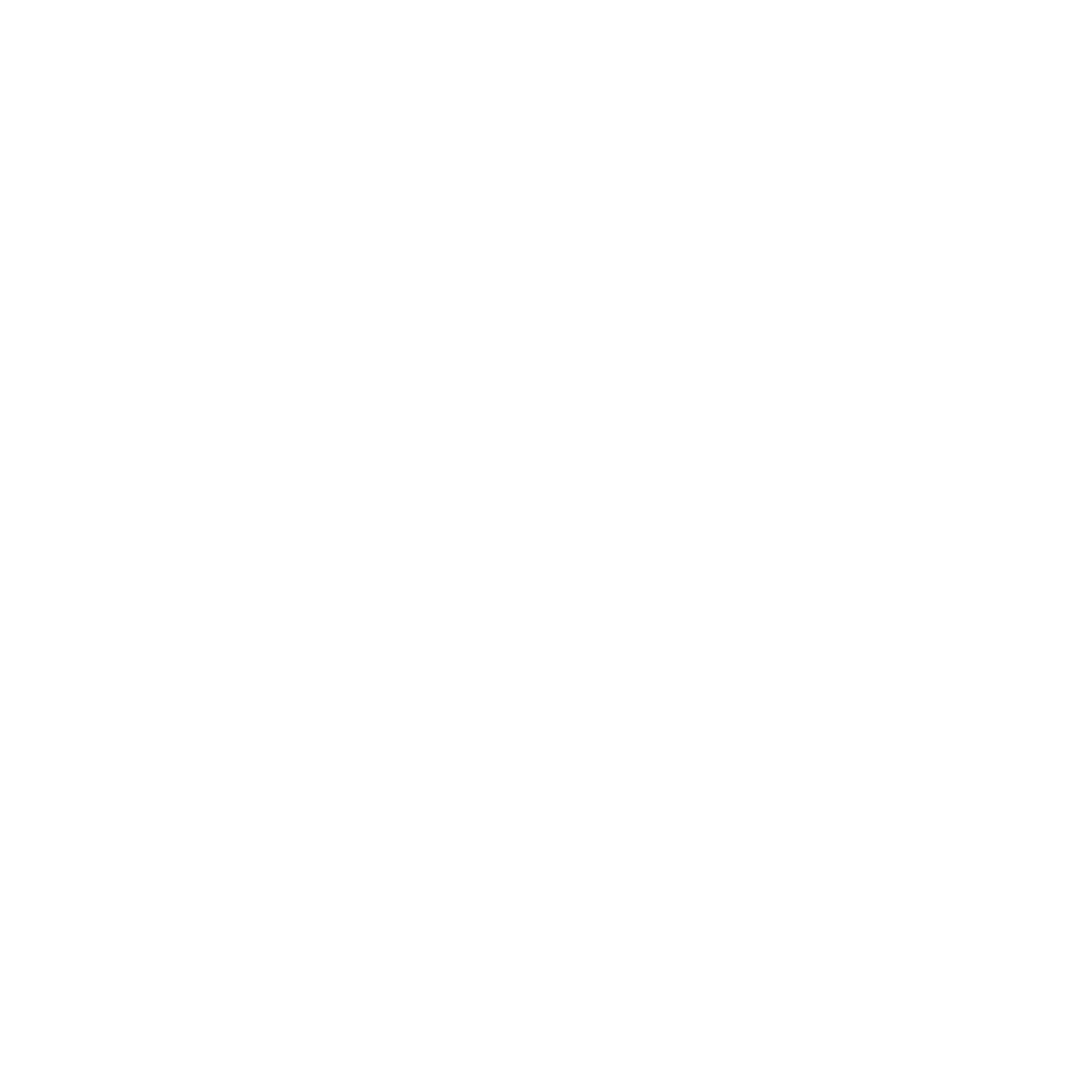
Андрей Аствацатуров
За последние три десятилетия мы стали свидетелями появления самых разных тенденций в российской прозе. Постмодернизм, пытавшийся в 1990-е активно диктовать художественную моду, ставил своей целью окончательно закрыть советский проект. В текстах Пелевина, Сорокина, Пригова, Пепперштейна утрировались, доводились до предела, пародировались конвенции советской литературы, и СССР предъявлялся как «устаревший», скверно сочиненный, агрессивный нарратив. В текстах российских постмодернистов была имитация, но не было «приращения смыслов» в духе Дж. Джойса или Т. С. Элиота; в крайнем случае происходило инъецирование «советского текста» несвойственными ему знаками (А. Бартов, «Рассказы о войне»), которые обнаруживали его «усталость», искусственность и вымороченность.
Впрочем, публикация романа А. А. Проханова «Гексоген» (2002), ставшего популярным у читателей, обозначила понимание, что советский проект отнюдь не завершен. И более того, завершаться не собирается, а, напротив, готов активно развиваться даже в условиях нового, несоветского времени. Эта готовность стала очевидной, когда в середине нулевых о себе ярко заявили представители «литературы тридцатилетних»: Роман Сенчин, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Герман Садулаев, Ильдар Абузяров, Андрей Рубанов, Денис Гуцко. Журнальная критика тотчас обратила на них внимание и назвала «новыми реалистами». Название уже тогда многим показалось не слишком удачным — вокруг него на страницах толстых журналов сразу развернулась жаркая дискуссия — но, так или иначе, при всей несхожести молодых авторов, был обнаружен общий вектор их поисков — попытка актуализировать силовые линии советской литературы. Проигнорировав постмодернистские стратегии, «новые реалисты» старались восстановить, казалось бы, навсегда разорванную связь времен, вернуться к реалистическим конвенциям ранне- и позднесоветской литературы. Стоит заметить, что интерес к российской современности, к политической напряженности, которая нами ощущается и ощущалась, заставил «новых реалистов» не только реанимировать старые традиции, но учитывать и усваивать прежде незнакомые. Так Роман Сенчин в своих зрелых текстах соединяет традиции деревенской прозы и традицию западной литературы, восходящую к фигуре Л.-Ф.Селина, традицию, к которой принадлежали такие признанные классики американской литературы как Г. Миллер и Дж. Керуак. В свою очередь Герман Садулаев дополняет традиционный реализм приемами и интонациями М. Уэльбека и Ч. Паланика.
Критик Андрей Рудалев в своей обстоятельной и крайне интересной книге «Четыре выстрела» проанализировал эстетические представления четырех наиболее ярких представителей современной русской прозы (З. Прилепин, С. Шаргунов, Р. Сенчин, Г. Садулаев), справедливо связав их с политическими вызовами нашего времени. Эти авторы, в самом деле, занимались общественной деятельностью и всегда крайне чутко реагировали на современность, отзываясь на актуальные политические события или в них непосредственно участвуя.
Однако нынешнее десятилетие несколько скорректировало художественные поиски предыдущего. Нетрудно заметить, что в большинстве новых текстов авторы как будто избегают разговора о современности. Даже те авторы, которых трудно упрекнуть в равнодушии к политическим и экономическим проблемам России. В книгах, опубликованных в 2010-е и отмеченных премиями, действие, как правило, разворачивается либо в историческом, либо в условном прошлом. И, что существенно, публика проявляет к ним заметно больший интерес, чем к книгам, где описывается современность. Трудно сказать, кто инициирует это явление: публика или автор, но оно проявляет себя с достаточной очевидностью.
Захар Прилепин, автор остросоциальных текстов, человек, которого трудно упрекнуть в невнимании к современности, выпускает роман «Обитель», действие которого происходит в раннесталинскую эпоху. Роман завоевывает престижную литературную премию и, что существенно, продается большими тиражами. Чего нельзя, к сожалению, сказать, о его недавнем документальном романе «Некоторые не попадут в Ад», нисколько не уступающем «Обители». Этот новый роман вызвал у публики значительно меньше интереса.
Дмитрий Быков, не менее активный участник общественной жизни, но представляющий противоположный политический лагерь, также пишет в романе «Июнь» именно о прошлом, о событиях накануне Второй мировой войны. Роман Сенчин, неизменно откликающийся на события современности, сочиняет роман «Дождь в Париже», где современная ситуация (пребывание героя в Париже) почти намеренно вытесняется описанием советского прошлого. Остросоциальный Андрей Рубанов сочиняет русское фэнтези «Финист — Ясный сокол» и удостаивается престижной литературной премии «Национальный бестселлер». Кстати, авторы бестселлеров Г. Яхина и Е. Водолазкин всегда обращаются к прошлому, либо к условному («Лавр»), либо — к реальному.
Последний роман Германа Садулаева «Иван Ауслендер» также обнаруживает эту тенденцию и напрямую обозначает уход от современности: персонаж оказывается вовлечен в белоленточное движение, но очень скоро в нем разочаровывается и отступает из остросоциальной конфликтной ситуации в свободный мир внутренних поисков.
Общая тенденция очевидна, однако стоит заметить, что современность так или иначе присутствует в текстах, где описывается прошлое. Это неизбежно, поскольку автор в любом случае творит из сегодняшнего дня, и этот день подспудно присутствует в тексте. Впрочем, порой не только подспудно, но даже вполне открыто. И у Быкова, и у Прилепина появляются устойчивые отсылки к современной ситуации. Она всегда мешает в нынешних текстах об историческом прошлом. Здесь, как мне кажется, очевидна довольно парадоксальная ситуация: писатели рассуждают о современности, но делают это при помощи знаков прошлого. Видимо, знаки современной культуры не дают возможность художнику полноценно высказаться. Вероятнее всего, в них отсутствует универсальное, вневременное измерение. Но, вполне возможно, оно есть, а наши авторы по каким причинам не готовы его обнаружить.
Критик Андрей Рудалев в своей обстоятельной и крайне интересной книге «Четыре выстрела» проанализировал эстетические представления четырех наиболее ярких представителей современной русской прозы (З. Прилепин, С. Шаргунов, Р. Сенчин, Г. Садулаев), справедливо связав их с политическими вызовами нашего времени. Эти авторы, в самом деле, занимались общественной деятельностью и всегда крайне чутко реагировали на современность, отзываясь на актуальные политические события или в них непосредственно участвуя.
Однако нынешнее десятилетие несколько скорректировало художественные поиски предыдущего. Нетрудно заметить, что в большинстве новых текстов авторы как будто избегают разговора о современности. Даже те авторы, которых трудно упрекнуть в равнодушии к политическим и экономическим проблемам России. В книгах, опубликованных в 2010-е и отмеченных премиями, действие, как правило, разворачивается либо в историческом, либо в условном прошлом. И, что существенно, публика проявляет к ним заметно больший интерес, чем к книгам, где описывается современность. Трудно сказать, кто инициирует это явление: публика или автор, но оно проявляет себя с достаточной очевидностью.
Захар Прилепин, автор остросоциальных текстов, человек, которого трудно упрекнуть в невнимании к современности, выпускает роман «Обитель», действие которого происходит в раннесталинскую эпоху. Роман завоевывает престижную литературную премию и, что существенно, продается большими тиражами. Чего нельзя, к сожалению, сказать, о его недавнем документальном романе «Некоторые не попадут в Ад», нисколько не уступающем «Обители». Этот новый роман вызвал у публики значительно меньше интереса.
Дмитрий Быков, не менее активный участник общественной жизни, но представляющий противоположный политический лагерь, также пишет в романе «Июнь» именно о прошлом, о событиях накануне Второй мировой войны. Роман Сенчин, неизменно откликающийся на события современности, сочиняет роман «Дождь в Париже», где современная ситуация (пребывание героя в Париже) почти намеренно вытесняется описанием советского прошлого. Остросоциальный Андрей Рубанов сочиняет русское фэнтези «Финист — Ясный сокол» и удостаивается престижной литературной премии «Национальный бестселлер». Кстати, авторы бестселлеров Г. Яхина и Е. Водолазкин всегда обращаются к прошлому, либо к условному («Лавр»), либо — к реальному.
Последний роман Германа Садулаева «Иван Ауслендер» также обнаруживает эту тенденцию и напрямую обозначает уход от современности: персонаж оказывается вовлечен в белоленточное движение, но очень скоро в нем разочаровывается и отступает из остросоциальной конфликтной ситуации в свободный мир внутренних поисков.
Общая тенденция очевидна, однако стоит заметить, что современность так или иначе присутствует в текстах, где описывается прошлое. Это неизбежно, поскольку автор в любом случае творит из сегодняшнего дня, и этот день подспудно присутствует в тексте. Впрочем, порой не только подспудно, но даже вполне открыто. И у Быкова, и у Прилепина появляются устойчивые отсылки к современной ситуации. Она всегда мешает в нынешних текстах об историческом прошлом. Здесь, как мне кажется, очевидна довольно парадоксальная ситуация: писатели рассуждают о современности, но делают это при помощи знаков прошлого. Видимо, знаки современной культуры не дают возможность художнику полноценно высказаться. Вероятнее всего, в них отсутствует универсальное, вневременное измерение. Но, вполне возможно, оно есть, а наши авторы по каким причинам не готовы его обнаружить.
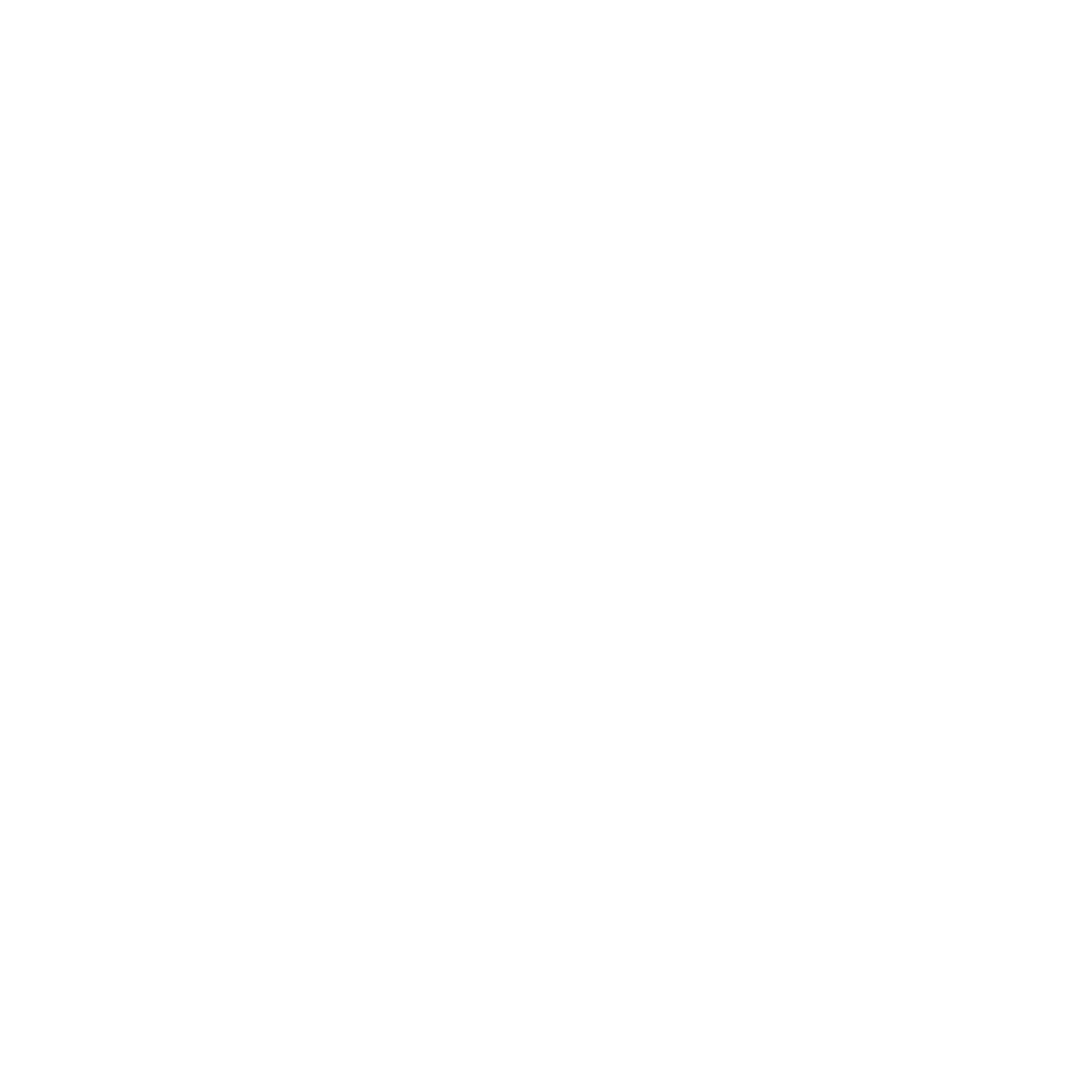
Шамиль Идиатуллин
Я удачливый писатель: у меня есть некоторая известность, пара премий, внимательные издатели и, главное, читатели, образующие, может, не самый многочисленный, но очень умный, умелый и качественный отряд.
Я счастливый читатель: мне доступен почти любой текст, в каком бы году и на каком бы языке он ни был издан.
Я благодарный представитель российской литературы, великой, могучей и не слишком удачливой. Для большинства книга превратилась из лучшего подарка, украшения интерьера и ежедневного утешителя в пылесборник и пережиток советского прошлого, которому место в лучшем случае на даче, а в основном — на подъездном подоконнике, авось кто подберет (к счастью, пока еще подбирают). Произвольно выбранный актер, рэпер или блогер популярней, влиятельней и богаче самого маститого писателя. Литературные страницы и рубрики истреблены как класс в большинстве традиционных СМИ и телеканалов.
Я счастливый читатель: мне доступен почти любой текст, в каком бы году и на каком бы языке он ни был издан.
Я благодарный представитель российской литературы, великой, могучей и не слишком удачливой. Для большинства книга превратилась из лучшего подарка, украшения интерьера и ежедневного утешителя в пылесборник и пережиток советского прошлого, которому место в лучшем случае на даче, а в основном — на подъездном подоконнике, авось кто подберет (к счастью, пока еще подбирают). Произвольно выбранный актер, рэпер или блогер популярней, влиятельней и богаче самого маститого писателя. Литературные страницы и рубрики истреблены как класс в большинстве традиционных СМИ и телеканалов.
Тираж в 2 тысячи экземпляров стал стандартным и зачастую не выкупается почти 200 миллионами, если считать с СНГ и диаспорой, потенциальных читателей. При этом, как правило, современная российская литература составляет малую долю рациона среднего отечественного читателя, а читателю зарубежному совсем незаметна.
Этот упадок можно списать на проблему одних только писателей и читателей, и тогда беспокоиться не о чем: первые марш на завод, в мерчендайзеры или охранники, вторые пусть читают, а лучше смотрят иностранное и играют в него — уже сейчас на десяток поколений хватит, и с каждым годом лес все гуще. Увы, списать не получится. Литература наряду с журналистикой и социологией остается инструментом, с помощью которого общество осваивается и пытается выжить здесь и сейчас. Они ловят, ощупывают и, как могут, описывают пресловутый миг между прошлым и будущим, поставляя препарированный материал остальному инструментарию, от политики и экономики до науки и этики. Без журналистики общество не видит и не слышит происходящего, без социологии не понимает собственной реакции, без литературы не может прочувствовать происходящего и того, больно это, холодно или сладко. Литераторы работают частью мозга общества, не самой умной, продвинутой и точной, но ответственной за то, чтобы справляться с текущей реальностью. Литераторы отвечают за то, чтоб общество не рехнулось окончательно, а искало ответы на главные вопросы, подсунутые литературой.
Без тентаклей или вкусовых сосочков, в роли которых выступают литераторы, общество собирает лбом неизбежные грабли, смело погружается по локоть во все оголенные розетки и вгрызается в колбасы, которые и за двадцать лет до просрочки пробовать не стоило. И чужие сосочки, позаимствованные у пусть даже самых чутких соседей с изумительно тонким вкусом, помогут не сильно — розетки и колбасы у всех разные, на чем бы ни настаивал старик Фрейд.
Поэтому нужна литература. Поэтому нужны писатели как люди, которые помогают человечеству выжить и адаптироваться к каждому историческому этапу. Поэтому проблемы литературы, а тем более ее выпадание в малосущественный осадок, оказываются большой бедой всего общества. К счастью, не сразу. К сожалению, неизбежно.
И поэтому же смысл литературы — писать про современность и современников. Разнообразно. Меняя угол наблюдения, степень прищура, ракурсы, технику и жанры. И вот тут, в принципе, можно и нужно оглядываться на соседей. В последние полвека несущими колоннами, скажем так, премиального мейнстрима во всем мире служат исторический и остросоциальный романы, роман взросления и интеллектуальная фантастика, в такт которым разнообразно развивается нон-фикшн. У нас же грех (и поздно) жаловаться лишь на первую из составляющих. Хруст французской булки, проклятый Сталин, эхо Отечественной и подмороженная оттепель заняли едва ли не все пространство, не отъеденное бульварным чтивом. От него, от дамских романов, скверных детективов и низкосортной фантастики читатель давно устал, — но к так называемой большой литературе массово так и не привалился. Не только потому, что цифровая эпоха предлагает массу более дружелюбных легко усваиваемых развлечений, но и потому, на мой взгляд, что в высокой прозе читатель не находит себя. Он увлеченно читает интеллектуальную прозу, которая напряженно исследует тонкости адаптации личности и общества к новой эпохе и новому миру, отличные книги про растерянного обывателя в цифровом Вавилоне, про замотанного родителя хипстеров, раздавленного кредитами, семейным долгом и новой нравственностью, про переселенцев, беженцев и гастарбайтеров — в Британии, Германии, Норвегии, США, Канаде, да хоть Антарктиде, но не у нас, потому что наших обывателей и гастарбайтеров как бы нет. То есть они есть, конечно, — это выясняется, когда посвященная им заграничная книга переводится на русский или когда Netflix, либо HBO вываливают очередной сериал по этой книге, — и эту книгу с сериалом можно растоптать как недобросовестные, порочащие, полные лжи и лажи.
Этот упадок можно списать на проблему одних только писателей и читателей, и тогда беспокоиться не о чем: первые марш на завод, в мерчендайзеры или охранники, вторые пусть читают, а лучше смотрят иностранное и играют в него — уже сейчас на десяток поколений хватит, и с каждым годом лес все гуще. Увы, списать не получится. Литература наряду с журналистикой и социологией остается инструментом, с помощью которого общество осваивается и пытается выжить здесь и сейчас. Они ловят, ощупывают и, как могут, описывают пресловутый миг между прошлым и будущим, поставляя препарированный материал остальному инструментарию, от политики и экономики до науки и этики. Без журналистики общество не видит и не слышит происходящего, без социологии не понимает собственной реакции, без литературы не может прочувствовать происходящего и того, больно это, холодно или сладко. Литераторы работают частью мозга общества, не самой умной, продвинутой и точной, но ответственной за то, чтобы справляться с текущей реальностью. Литераторы отвечают за то, чтоб общество не рехнулось окончательно, а искало ответы на главные вопросы, подсунутые литературой.
Без тентаклей или вкусовых сосочков, в роли которых выступают литераторы, общество собирает лбом неизбежные грабли, смело погружается по локоть во все оголенные розетки и вгрызается в колбасы, которые и за двадцать лет до просрочки пробовать не стоило. И чужие сосочки, позаимствованные у пусть даже самых чутких соседей с изумительно тонким вкусом, помогут не сильно — розетки и колбасы у всех разные, на чем бы ни настаивал старик Фрейд.
Поэтому нужна литература. Поэтому нужны писатели как люди, которые помогают человечеству выжить и адаптироваться к каждому историческому этапу. Поэтому проблемы литературы, а тем более ее выпадание в малосущественный осадок, оказываются большой бедой всего общества. К счастью, не сразу. К сожалению, неизбежно.
И поэтому же смысл литературы — писать про современность и современников. Разнообразно. Меняя угол наблюдения, степень прищура, ракурсы, технику и жанры. И вот тут, в принципе, можно и нужно оглядываться на соседей. В последние полвека несущими колоннами, скажем так, премиального мейнстрима во всем мире служат исторический и остросоциальный романы, роман взросления и интеллектуальная фантастика, в такт которым разнообразно развивается нон-фикшн. У нас же грех (и поздно) жаловаться лишь на первую из составляющих. Хруст французской булки, проклятый Сталин, эхо Отечественной и подмороженная оттепель заняли едва ли не все пространство, не отъеденное бульварным чтивом. От него, от дамских романов, скверных детективов и низкосортной фантастики читатель давно устал, — но к так называемой большой литературе массово так и не привалился. Не только потому, что цифровая эпоха предлагает массу более дружелюбных легко усваиваемых развлечений, но и потому, на мой взгляд, что в высокой прозе читатель не находит себя. Он увлеченно читает интеллектуальную прозу, которая напряженно исследует тонкости адаптации личности и общества к новой эпохе и новому миру, отличные книги про растерянного обывателя в цифровом Вавилоне, про замотанного родителя хипстеров, раздавленного кредитами, семейным долгом и новой нравственностью, про переселенцев, беженцев и гастарбайтеров — в Британии, Германии, Норвегии, США, Канаде, да хоть Антарктиде, но не у нас, потому что наших обывателей и гастарбайтеров как бы нет. То есть они есть, конечно, — это выясняется, когда посвященная им заграничная книга переводится на русский или когда Netflix, либо HBO вываливают очередной сериал по этой книге, — и эту книгу с сериалом можно растоптать как недобросовестные, порочащие, полные лжи и лажи.
С отечественной книгой обходятся так же. В лучшем случае читатели и критики из сочувствия к автору объясняют слабость книжки спецификой российской действительности, подобно вампиру не отражаемой стандартным литературным зеркалом и, стало быть, требующей иных отражателей, дополнительного времени для осмысления, а в идеале выращивания новых Толстых с Достоевскими, способных справиться с нонешней полыхающей злободневностью.
Это не только выученная литературная беспомощность и полная ерунда, не позволяющие вырваться из плена истории и бесконечного хождения по кругу. Это еще и профессиональное преступление: отдавать внукам или соседям на описание и осмысление собственную кровоточащую, пульсирующую, бьющую и такую интересную жизнь, в которую надо всматриваться, вгрызаться, втискивать пальцы и что получится.
Даже если в обществе существует тихое отрицание нашей реальности — типа «я не хочу быть участником всего этого», люди, которые заточены на то, чтобы изучать и отображать жизнь социума, не должны молчать. Они должны искать и подсказывать если не выходы, то хотя бы тупики. Иначе мы так и будем тетешкать себя мантрой «и так все все знают», а потом изумляться: ой, пацаны на улицу вышли, ой, чиновники, оказывается, все украли и уже нас кушают, ой, завод рванул, ой, нам на родном языке говорить запретили, ой, наши защитники выходят нас защищать не с щитами, а с дубинками, — и хорошо, если успеем изумиться-то.
Лично меня изумляет вновь проснувшееся стремление сделать из нас одинаковые винтики, которые бы говорили на одном языке, исповедовали одну веру, одинаково одевались, одинаково голосовали, причем не по существующему, а по искусственно верстаемому канону. Но приведение к одному знаменателю затирает яркие оттенки в социуме. Красное, зеленое, белое, черное становятся одинаково серым. И все книжки про них, от «Мы» и «1984» до «Пятидесяти оттенков серого», уже написаны. Да и помним мы, чем и как быстро такая серость кончается. Больше не хочется.
Россия — сумма разных культур, в этом ее сила и особенность. Сильная свободная страна достойна сильной свободной и разнообразной литературы, без которой ей труднее быть сильной и свободной.
Даже если в обществе существует тихое отрицание нашей реальности — типа «я не хочу быть участником всего этого», люди, которые заточены на то, чтобы изучать и отображать жизнь социума, не должны молчать. Они должны искать и подсказывать если не выходы, то хотя бы тупики. Иначе мы так и будем тетешкать себя мантрой «и так все все знают», а потом изумляться: ой, пацаны на улицу вышли, ой, чиновники, оказывается, все украли и уже нас кушают, ой, завод рванул, ой, нам на родном языке говорить запретили, ой, наши защитники выходят нас защищать не с щитами, а с дубинками, — и хорошо, если успеем изумиться-то.
Лично меня изумляет вновь проснувшееся стремление сделать из нас одинаковые винтики, которые бы говорили на одном языке, исповедовали одну веру, одинаково одевались, одинаково голосовали, причем не по существующему, а по искусственно верстаемому канону. Но приведение к одному знаменателю затирает яркие оттенки в социуме. Красное, зеленое, белое, черное становятся одинаково серым. И все книжки про них, от «Мы» и «1984» до «Пятидесяти оттенков серого», уже написаны. Да и помним мы, чем и как быстро такая серость кончается. Больше не хочется.
Россия — сумма разных культур, в этом ее сила и особенность. Сильная свободная страна достойна сильной свободной и разнообразной литературы, без которой ей труднее быть сильной и свободной.
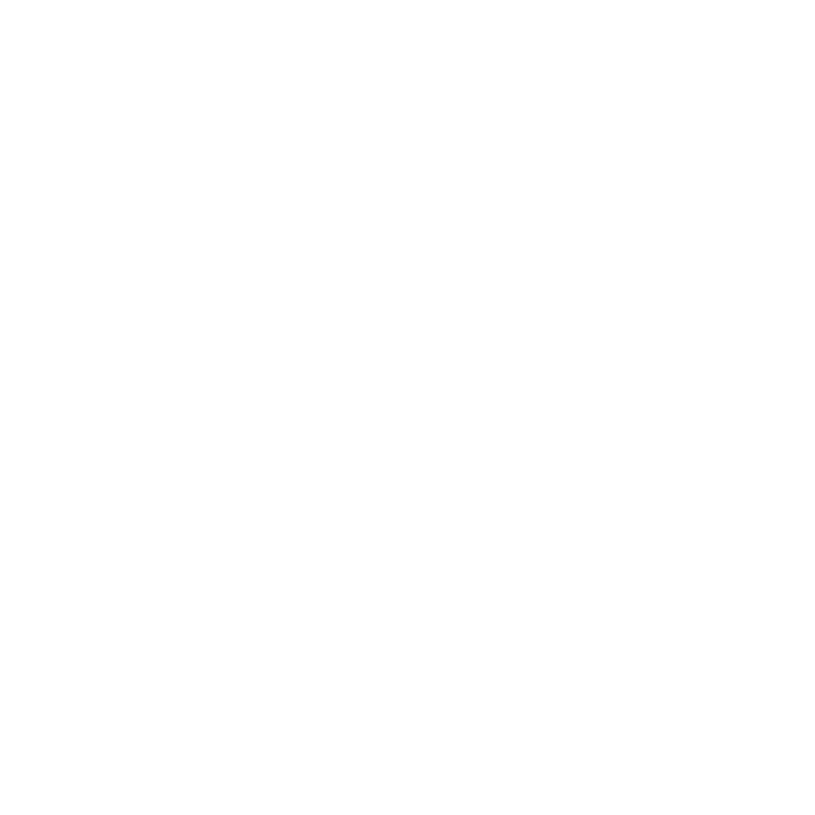
Григорий Служитель
Если литература чему-то и учит, то только одному: время иллюзорно. Описать неурожай, осаду города, ритуал; упорядочить свои или чужие мысли, чувства и доверить их бумаге (папирусу, глиняным дощечкам или бересте) — это одно из главных технических открытий эры человека разумного. Слово не столько информирует, сколько деформирует. И не читателя, а само время. Эта теория имеет простое и очевидное доказательство: за чтением интересной книги время летит гораздо быстрее. Все писатели (возьмем шире, художники) — современники. И в этом есть чудесный и непреложный закон искусства.
Во всяком случае, я представляю себе литературу не как уходящую в прошлое колею (вот тут у нас Сорокин и Пелевин, там неподалеку Набоков, там еле виден Диккенс и уже где-то совсем за горизонтом непонятный, окаменевший Боккаччо). Культура вообще анахронична. Любой автор находится на расстоянии, отделяющем глаза от страницы. Бумажной или электронной.
Во всяком случае, я представляю себе литературу не как уходящую в прошлое колею (вот тут у нас Сорокин и Пелевин, там неподалеку Набоков, там еле виден Диккенс и уже где-то совсем за горизонтом непонятный, окаменевший Боккаччо). Культура вообще анахронична. Любой автор находится на расстоянии, отделяющем глаза от страницы. Бумажной или электронной.
В этом смысле граница между современной и, положим, античной литературой если не стерта, то проведена блеклым пунктиром. И на этой границе нет ни шлагбаумов, ни таможни, ни овчарок, ни пунктов досмотра.
Я не критик и не блогер. Я не пишу ни рецензий, ни обозрений. И не очень хочу. Каждый должен заниматься своим делом. Но плюрализм мнений и свобода слова имеют обратную сторону, кровавый, если угодно, подбой. Каждый, имеющий доступ к интернету, глубоко убежден, что мир рухнет, если он не выразит своего мнения по какому-либо вопросу. Так вот, современный критик представляется мне этаким выжившим после кораблекрушения, который каждую корягу на горизонте принимает за спасительный корабль. Я простой пехотинец русской словесности и не слишком пристально слежу за книжными новинками. Мне кажется, что должно пройти какое-то время, чтобы книга отстоялась, чтобы стало понятно, что же она представляет из себя на самом деле. Короче, я плохо разбираюсь в современном литературном процессе, но некоторые тенденции актуальной русской прозы мне очевидны: остросоциальность, документальность и перефокусировка с недавнего прошлого на день нынешний и даже иногда грядущий (жанровую литературу: фэнтези, детективы и т. д. я не имею в виду).
При этом писателей я разделяю на три рода войск: те, кто отображают действительность, искажают ее и преображают. В качестве аналогии с первыми могу привести такой пример. По интернету гуляет ролик, в котором Джим Керри с феноменальной, прямо-таки дьявольской точностью копирует мимику и жесты Николсона в сцене из фильма «Сияние». В верхней части экрана Керри, в нижней Николсон. Возможно, те, кто не знаком с творчеством Кубрика, не сразу поймут, где оригинал, а где эрзац. Сделана пародия не просто мастерски, а пугающе достоверно. Высокоточное копирование и есть первое и единственное достоинство этого ролика. То же я могу сказать и о литературе. Да, вне всяких сомнений, писателю не принадлежит ничего, даже язык придумал не он; процесс сложения слов — по сути своей, временное заимствование. Но в самом подражании жизни уже есть какое-то ложное самоуничижение. Это следование за несуществующим вожатым по чужой лыжне. Искажение — это месть миру. За что угодно: за детские обиды, за неврозы, за несложившиеся любови и т. д. Такие высказывания приносят боль читателю, но имеют (не всегда) терапевтическое воздействие на автора. Преображение — это благодарность миру. Лично для меня наиболее близкий подход.
Я уверен, что литература должна вести актуальный разговор, но в то же время идеальный оптический прибор для писателя — что-то среднее между микроскопом и телескопом. И еще калейдоскопом. Ну еще, может быть, сварочной маской. Так или иначе, литература не должна обслуживать хэштеги. Писатель не должен выполнять социальный заказ. Повестка дня — это всего лишь тема, повод, но не цель. В этом смысле я совершенно согласен с Бродским, который говорил, что писатель измеряется его метафизичностью.
Новейшая проза соревнуется с журналистикой и отмирает через пару месяцев после выхода в печать. И вот удивительный парадокс нашего времени. С одной стороны, современные социальные институты наконец-то впервые с шестидесятых (когда перешагнувшие отметку в сорок лет становились вне закона) объявили амнистию старости. Мужчины отращивают бороды викингов, а молодые женщины красят волосы в седину. С другой стороны, этому противостоит культ обновления: одежды, приложений, смартфонов, мест работы, автомобилей, собственной кожи, сексуального партнера. Но ведь, по существу, это хождение по кругу. Ну или кругам; повторением уже пережитого, пройденного, прочувствованного и даже не тобой, а воображаемым, идеальным тобой.
Если говорить о том, чего не хватает лично мне в современной литературе, так это поэтичности текстов и, как ни странно, неуверенности автора в себе. Писатели соревнуются в знании жизни, но мне кажется, что, говоря по-ерофеевски, всеобщее малодушие — вот редкий, но столь нужный ингредиент в кухне современной прозы.
Есть два основных жанра литературы: проповедь и исповедь. Проповедник всегда знает и презирает несовершенство другого. Проповедник убежден и серьезен в отношении себя. В ситуации, когда от общества требуется неимоверное усилие, — проповедь необходима. Но лично мне гораздо ближе второе. Исповедуясь, признаваясь, мы никогда не становимся выше нашего конфидента, но всегда как бы находимся с ним на равных. Так же с писателем: только будучи на равных с миром, он не испытывает к нему ни страха, ни, наоборот, презрения. А это делает свободным.
Я не критик и не блогер. Я не пишу ни рецензий, ни обозрений. И не очень хочу. Каждый должен заниматься своим делом. Но плюрализм мнений и свобода слова имеют обратную сторону, кровавый, если угодно, подбой. Каждый, имеющий доступ к интернету, глубоко убежден, что мир рухнет, если он не выразит своего мнения по какому-либо вопросу. Так вот, современный критик представляется мне этаким выжившим после кораблекрушения, который каждую корягу на горизонте принимает за спасительный корабль. Я простой пехотинец русской словесности и не слишком пристально слежу за книжными новинками. Мне кажется, что должно пройти какое-то время, чтобы книга отстоялась, чтобы стало понятно, что же она представляет из себя на самом деле. Короче, я плохо разбираюсь в современном литературном процессе, но некоторые тенденции актуальной русской прозы мне очевидны: остросоциальность, документальность и перефокусировка с недавнего прошлого на день нынешний и даже иногда грядущий (жанровую литературу: фэнтези, детективы и т. д. я не имею в виду).
При этом писателей я разделяю на три рода войск: те, кто отображают действительность, искажают ее и преображают. В качестве аналогии с первыми могу привести такой пример. По интернету гуляет ролик, в котором Джим Керри с феноменальной, прямо-таки дьявольской точностью копирует мимику и жесты Николсона в сцене из фильма «Сияние». В верхней части экрана Керри, в нижней Николсон. Возможно, те, кто не знаком с творчеством Кубрика, не сразу поймут, где оригинал, а где эрзац. Сделана пародия не просто мастерски, а пугающе достоверно. Высокоточное копирование и есть первое и единственное достоинство этого ролика. То же я могу сказать и о литературе. Да, вне всяких сомнений, писателю не принадлежит ничего, даже язык придумал не он; процесс сложения слов — по сути своей, временное заимствование. Но в самом подражании жизни уже есть какое-то ложное самоуничижение. Это следование за несуществующим вожатым по чужой лыжне. Искажение — это месть миру. За что угодно: за детские обиды, за неврозы, за несложившиеся любови и т. д. Такие высказывания приносят боль читателю, но имеют (не всегда) терапевтическое воздействие на автора. Преображение — это благодарность миру. Лично для меня наиболее близкий подход.
Я уверен, что литература должна вести актуальный разговор, но в то же время идеальный оптический прибор для писателя — что-то среднее между микроскопом и телескопом. И еще калейдоскопом. Ну еще, может быть, сварочной маской. Так или иначе, литература не должна обслуживать хэштеги. Писатель не должен выполнять социальный заказ. Повестка дня — это всего лишь тема, повод, но не цель. В этом смысле я совершенно согласен с Бродским, который говорил, что писатель измеряется его метафизичностью.
Новейшая проза соревнуется с журналистикой и отмирает через пару месяцев после выхода в печать. И вот удивительный парадокс нашего времени. С одной стороны, современные социальные институты наконец-то впервые с шестидесятых (когда перешагнувшие отметку в сорок лет становились вне закона) объявили амнистию старости. Мужчины отращивают бороды викингов, а молодые женщины красят волосы в седину. С другой стороны, этому противостоит культ обновления: одежды, приложений, смартфонов, мест работы, автомобилей, собственной кожи, сексуального партнера. Но ведь, по существу, это хождение по кругу. Ну или кругам; повторением уже пережитого, пройденного, прочувствованного и даже не тобой, а воображаемым, идеальным тобой.
Если говорить о том, чего не хватает лично мне в современной литературе, так это поэтичности текстов и, как ни странно, неуверенности автора в себе. Писатели соревнуются в знании жизни, но мне кажется, что, говоря по-ерофеевски, всеобщее малодушие — вот редкий, но столь нужный ингредиент в кухне современной прозы.
Есть два основных жанра литературы: проповедь и исповедь. Проповедник всегда знает и презирает несовершенство другого. Проповедник убежден и серьезен в отношении себя. В ситуации, когда от общества требуется неимоверное усилие, — проповедь необходима. Но лично мне гораздо ближе второе. Исповедуясь, признаваясь, мы никогда не становимся выше нашего конфидента, но всегда как бы находимся с ним на равных. Так же с писателем: только будучи на равных с миром, он не испытывает к нему ни страха, ни, наоборот, презрения. А это делает свободным.

Дмитрий Воденников
Встретились на днях на приеме в Греческом посольстве с Ольгой Седаковой. Я не очень люблю эти посиделки, точнее, «стояния», но Седаковой обрадовался.
Пока нас не позвали в зал, где сиял греческий фуршет, мы нашли, где сесть, сели, и я говорю:
— Смотрел ваш выпуск у Солодникова. Почему вас Венедикт Ерофеев называл «полоумной поэтессой»? Вы же совсем не полоумная.
— Ну вот была у него в поэме такая фраза: «Потом пришел Боря С. с какой-то полоумной поэтессой». Наверное, потому что все время умничала.
Пока нас не позвали в зал, где сиял греческий фуршет, мы нашли, где сесть, сели, и я говорю:
— Смотрел ваш выпуск у Солодникова. Почему вас Венедикт Ерофеев называл «полоумной поэтессой»? Вы же совсем не полоумная.
— Ну вот была у него в поэме такая фраза: «Потом пришел Боря С. с какой-то полоумной поэтессой». Наверное, потому что все время умничала.
Я потом нашел уже дома, в одном интервью Седакова рассказывала: «Через много лет я его спросила: "почему ты меня назвал "полоумной""? — а он сказал: "Я ошибся наполовину"».
…На меня повлияли в самом начале моего поэтического пути две женщины. Это Седакова и Елена Шварц.
Я даже перевез из родительской квартиры в свою собственную, уже в тридцать лет, всего несколько современных поэтических книг. Одной из них была книга, изданная «Гнозисом» — седаковская, без названия: просто «Стихи». Год издания — 1994. Там были среди остального «Стелы и надписи», а также любимое мной «Китайское путешествие». Я знаю, откуда рос мой «Репейник». Он тоже кому-то казался полоумным. Правда, не умничающим. Да и как репейник может начать умничать? Это же растение.
…На меня повлияли в самом начале моего поэтического пути две женщины. Это Седакова и Елена Шварц.
Я даже перевез из родительской квартиры в свою собственную, уже в тридцать лет, всего несколько современных поэтических книг. Одной из них была книга, изданная «Гнозисом» — седаковская, без названия: просто «Стихи». Год издания — 1994. Там были среди остального «Стелы и надписи», а также любимое мной «Китайское путешествие». Я знаю, откуда рос мой «Репейник». Он тоже кому-то казался полоумным. Правда, не умничающим. Да и как репейник может начать умничать? Это же растение.
Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье
женщины или старухи.
Откуда нам знать,
кем человек отразится, глядя в глубокую воду,
гладкую, как алебастр?
Может, и так:
мальчик, собака, старик.
Мальчик особенно грустен.
женщины или старухи.
Откуда нам знать,
кем человек отразится, глядя в глубокую воду,
гладкую, как алебастр?
Может, и так:
мальчик, собака, старик.
Мальчик особенно грустен.
Это из стихотворения Седаковой. 1982 год. Я и есть этот мальчик: еще учусь в школе. Имя Седаковой я узнаю только лет через двенадцать. А еще через 25 лет в Греческом посольстве, сказав, что видел ее в программе Солодникова, спрошу, как часто, некстати:
— Почему там, в программе, там много глубокомысленных, не ваших, пауз?
Седакова улыбнулась:
— Разговор же всегда в паузах.
— Для эха? — хотелось мне спросить, но я передумал.
— Почему там, в программе, там много глубокомысленных, не ваших, пауз?
Седакова улыбнулась:
— Разговор же всегда в паузах.
— Для эха? — хотелось мне спросить, но я передумал.
— Я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь.
— Что же, — старик говорит, — я прощаю, но ты не
услышишь.
Здесь хорошо.
— Здесь хорошо?..
— Здесь хорошо?.. —
в коридорах
эхо является.
— Что же, — старик говорит, — я прощаю, но ты не
услышишь.
Здесь хорошо.
— Здесь хорошо?..
— Здесь хорошо?.. —
в коридорах
эхо является.
Седакова однажды (не мне) рассказывала, что Веничка Ерофеев часто говорил, что его пьянство носит символический характер.
«...Каждый упивается своим — кто водкой, кто чем-то еще… Неизвестно, кто пьянее. Для него было важно, чтобы алкогольный сюжет не понимали слишком буквально. В реальности дело было сложнее, у него была и наследственная предрасположенность. Отец Венички был алкоголиком, брат… В юности он не прикасался к спиртному. Все случилось вдруг. Передаю его рассказ. Поступив в МГУ, в Москве, бредя по какой-то улице, он увидел в витрине водку. Зашел, купил четвертинку и пачку "Беломора". Выпил, закурил — и больше, как он говорил, этого не кончал. Наверное, врачи могут это описать как мгновенный алкоголизм».
Как это хорошо. Мгновенный алкоголизм. Как мгновенное стихотворение. (На самом деле ни в алкоголизме, ни в стихотворениях ничего хорошего нет — не делайте так, дети. Но это «без пауз» мне нравится. Не надо больших интервалов: пусть стишок идет за стишком. Веточка за веточкой. След в след. Собака за мальчиком, мальчик за стариком.)
Читал ли Венедикт Ерофеев Ольге Седаковой свои «Петушки», пока их писал? Нет. Он закончил текст очень быстро, к концу года, и у всех приятелей оказалась эта тетрадка. В курилке университета они ее читали. Всего и был один экземпляр. Написанная от руки книга. В общей тетради в 48 листов.
Такая маленькая? (Как-то я себе поэму, когда читал, представлял больше. Неужели она вся поместилась в тетради из 48 листов? Или я читал с паузами?)
«...Каждый упивается своим — кто водкой, кто чем-то еще… Неизвестно, кто пьянее. Для него было важно, чтобы алкогольный сюжет не понимали слишком буквально. В реальности дело было сложнее, у него была и наследственная предрасположенность. Отец Венички был алкоголиком, брат… В юности он не прикасался к спиртному. Все случилось вдруг. Передаю его рассказ. Поступив в МГУ, в Москве, бредя по какой-то улице, он увидел в витрине водку. Зашел, купил четвертинку и пачку "Беломора". Выпил, закурил — и больше, как он говорил, этого не кончал. Наверное, врачи могут это описать как мгновенный алкоголизм».
Как это хорошо. Мгновенный алкоголизм. Как мгновенное стихотворение. (На самом деле ни в алкоголизме, ни в стихотворениях ничего хорошего нет — не делайте так, дети. Но это «без пауз» мне нравится. Не надо больших интервалов: пусть стишок идет за стишком. Веточка за веточкой. След в след. Собака за мальчиком, мальчик за стариком.)
Читал ли Венедикт Ерофеев Ольге Седаковой свои «Петушки», пока их писал? Нет. Он закончил текст очень быстро, к концу года, и у всех приятелей оказалась эта тетрадка. В курилке университета они ее читали. Всего и был один экземпляр. Написанная от руки книга. В общей тетради в 48 листов.
Такая маленькая? (Как-то я себе поэму, когда читал, представлял больше. Неужели она вся поместилась в тетради из 48 листов? Или я читал с паузами?)
— Вот, ты звал, я пришел.
Здравствуй, отец, у нас перестроили спальни.
Мама скучает. — Сын мой, поздний, единственный, слушай,
я говорю на прощанье: всегда соблюдай благородство,
это лучшее дело живущих…
— Мама велела сказать…
— Будешь ты счастлив.
— Когда?
— Всегда.
— Это горько.
— Что поделаешь,
так нам положено.
Молча собака глядит
на беседу: глаза этой белой воды,
этой картины —«мальчик, собака, старик».
Здравствуй, отец, у нас перестроили спальни.
Мама скучает. — Сын мой, поздний, единственный, слушай,
я говорю на прощанье: всегда соблюдай благородство,
это лучшее дело живущих…
— Мама велела сказать…
— Будешь ты счастлив.
— Когда?
— Всегда.
— Это горько.
— Что поделаешь,
так нам положено.
Молча собака глядит
на беседу: глаза этой белой воды,
этой картины —«мальчик, собака, старик».
Когда нас позвали в зал, там стоял длинный стол, а на нем много-много закусок.
Я взял одну и съел. «Она с мясом? — спросила Ольга Седакова. — Просто я не ем мясо».
Я взял вторую (через паузу) и отломил половину:
— Теперь никогда не поймешь: что с чем. Но мне кажется, эта — все-таки с мясом.
Я взял одну и съел. «Она с мясом? — спросила Ольга Седакова. — Просто я не ем мясо».
Я взял вторую (через паузу) и отломил половину:
— Теперь никогда не поймешь: что с чем. Но мне кажется, эта — все-таки с мясом.
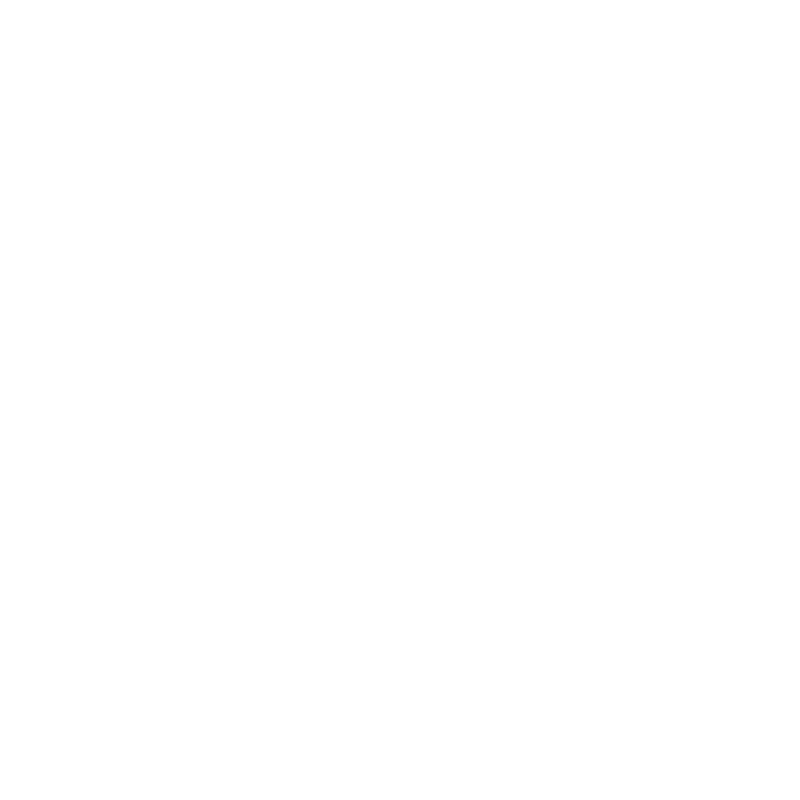
Алиса Ганиева
Удивительно, что герои биографий влияют не только на авторов этих самых биографий. Они головокружительно влияют и на критиков биографий. Вот и в случае с авторами разномастных отзывов на «Ее Лиличество…» Они безостановочно отвлекаются от самой книги на рассуждения о том, насколько прекрасна или ужасна моя героиня. Анонимный рецензент «Горького» так прямо и заявляет: «Вообще обсудить хочется не столько саму книгу, сколько образ Лили Юрьевны Брик в русской культуре». И далее вся рецензия строится на строгих феминистских укорах — я, дескать, не потрудилась изучить и проанализировать творчество Лили Брик, сосредоточившись на ее будуарных похождениях. А она, мол, автор «более 11 сценариев, пьес и даже либретто балета». Примерно в том же духе где-то высказался и книгообозреватель Константин Мильчин.
И здесь я недоуменно пожимаю плечами. Плохо вы знаете Лилю Брик, если считаете, что она переживала за судьбу своих сценариев.
И здесь я недоуменно пожимаю плечами. Плохо вы знаете Лилю Брик, если считаете, что она переживала за судьбу своих сценариев.
М.: Молодая гвардия, 2019.
Мало того, чаще всего она даже не дописывала их до конца. Начинала, но быстро отвлекалась и переключалась на что-нибудь новое. Мой горьковский критик (или критикесса) сетует, что Лилин талант всегда зажимали, по-сексистски рассматривая ее только как женщину, как музу-любовницу, и что я тоже угодила в эту дискриминационную колею. Но помилуйте! Лиля Брик никогда не считала себя гениальным драматургом — ее амбиции лежали совсем в другой плоскости. И не зря я снова и снова цитирую Зиновия Паперного, который остроумно и проницательно заметил, что главным талантом Лили Брик была ее личная жизнь. Фраза, сказанная не врагом Лили, а преданным другом.
Театр, кино, скульптура, живопись — у Лили было много хобби и талантов, и, увлекаясь, она и вправду какой-то период горела делом — по семь часов к ряду монтировала свой «Стеклянный глаз», отправляла Маяковского пробивать ее сценарии у киношных бонз — и Маяковский по этому поводу даже устраивал в высоких кабинетах форменные скандалы. Но, наигравшись, она кокетливо отбрасывала игрушку в сторону.
Настоящим искусством Лили были вовсе не пьесы. Уж поверьте, будь они и вправду гениальны и будь она хоть чуточку более тщеславна в этой области, о Брик-сценаристке мы бы знали гораздо больше, чем ничего. А уж при ее-то связях тем более (одно время Осип Брик возглавлял сценарный отдел крупнейшей кинокомпании «Межрабпом-Русь» — сейчас это киностудия им.
А. Горького).
И потом, о Лиле Брик и феминизме я в книге, кажется, говорю предостаточно. Моя героиня была соткана из противоречий — с одной стороны, смелость морали и нарядов, прическа гарсон, танцы шимми и вождение автомобиля (женщина за рулем! тогда это было неслыханно), а с другой стороны, — нравы содержанки, буржуазный гедонизм и нежелание утруждать себя заработком. Она была, с одной стороны, очень раннесоветской по мышлению — передовиком свободной любви, декламатором лефовской идеологии тотальной утилизации искусства. А с другой, — любила красоту ради красоты и прекрасно разбиралась во французских духах и шляпках.
Театр, кино, скульптура, живопись — у Лили было много хобби и талантов, и, увлекаясь, она и вправду какой-то период горела делом — по семь часов к ряду монтировала свой «Стеклянный глаз», отправляла Маяковского пробивать ее сценарии у киношных бонз — и Маяковский по этому поводу даже устраивал в высоких кабинетах форменные скандалы. Но, наигравшись, она кокетливо отбрасывала игрушку в сторону.
Настоящим искусством Лили были вовсе не пьесы. Уж поверьте, будь они и вправду гениальны и будь она хоть чуточку более тщеславна в этой области, о Брик-сценаристке мы бы знали гораздо больше, чем ничего. А уж при ее-то связях тем более (одно время Осип Брик возглавлял сценарный отдел крупнейшей кинокомпании «Межрабпом-Русь» — сейчас это киностудия им.
А. Горького).
И потом, о Лиле Брик и феминизме я в книге, кажется, говорю предостаточно. Моя героиня была соткана из противоречий — с одной стороны, смелость морали и нарядов, прическа гарсон, танцы шимми и вождение автомобиля (женщина за рулем! тогда это было неслыханно), а с другой стороны, — нравы содержанки, буржуазный гедонизм и нежелание утруждать себя заработком. Она была, с одной стороны, очень раннесоветской по мышлению — передовиком свободной любви, декламатором лефовской идеологии тотальной утилизации искусства. А с другой, — любила красоту ради красоты и прекрасно разбиралась во французских духах и шляпках.
Но главное в ней другое, конечно. Она была сейсмографом чужих гениальностей.
Чутким, тонким и глубоким распознавателем и помощником настоящих талантов. Она их чуяла издали, приближала их еще безвестными и непризнанными и укорачивала им путь к славе. Конечно, не всем — ее любимые авангардные художники, к примеру, в то время прославиться по-настоящему и не могли. Но Плисецкую, Вознесенского и многих других она поддерживала. И с подопечными было вовсе не обязательно крутить романы.
На этом ее таланте попечительницы, музы, слушательницы, советчицы я в книге всячески заостряю внимание, но мои критики видят только желтый канкан — калейдоскоп любовников, бордельные авантюры и голое платье. И не мудрено, ведь я и сама вслед за своей героиней с упоением погружаюсь в эту вселенную свободной любви, столь несвойственную нашему асексуальному времени.
А это и раздражает моих критиков более всего. «Я всегда был невысокого мнения о биографических потугах "Молодой гвардии", но сейчас господа издатели при деятельном участии Ганиевой пробили дно, и сия глубокая пучина поглотила их, — сетует один одиозный литературный журналист в сетевом издании. — Факты общеизвестны, об оригинальной их интерпретации и речи нет, — не те у авторессы задатки. И задачи не те: кончала или нет? сифилис или триппер?» Отзывов в этом духе довольно много. Все, как один, ссылаются на наказ, данный мне Вениамином Смеховым — не ударяться в желтизну. Наказ, который я сама же и привожу в предисловии.
И вот тут я ловлю моих дорогих хулителей на чистоплюйстве и ханжестве. И на плохом знакомстве с моей героиней. Лиля Юрьевна Брик, я уверена, ужасно веселилась бы над господами, так оберегающими ее честь. Она была эпатажницей, абсолютно лишенной комплексов и предрассудков — ей нравилось, когда ее поступки или романы обсуждались прямо, без утайки и ложной скромности. Она могла легко отмочить самую сальную шутку и не стеснялась обсудить медицинские подробности своей половой жизни.
ЛЮБ была в этом смысле очень зрелой, очень европейской женщиной. Что за нелепицы, что за отсталость — скрывать, ревновать, хихикать, замалчивать? И здесь ее роль в либерализации общества отсталого, кабанихинского, провинциального несомненна. Представляю, как она удивилась бы, что в XXI веке все еще осуждается перечисление вслух чьих-то любовников. Сама она своих любовников перечисляла открыто — да и весь ее круг формалистов, лефовцев, молодых экспериментаторов 1920-х относился к этому гораздо менее болезненно, что современные российские библиофилы. Повторю еще раз: писать о Лиле Брик и обойти молчанием ее любовную и сексуальную жизнь — нонсенс и нечестность. Ее личная жизнь, повторюсь, была ее искусством, ее идеологией и ее способом общаться со временем. Ее способом выживать в страшный Люциферов век. И этот ХХ-й Люциферов век и есть второй герой моей книжки.
Что касается аргументированной критики, то я ее люблю и всегда благодарна за комментарии по существу. В этом смысле, самым важным для меня отзывом был отзыв шведского слависта Бенгдта Янгфельдта, на чьи работы я довольно щедро опиралась во время написания «Ее Лиличества». Он поделился своим мнением частным письмом, поэтому процитировать, увы, не смогу. Но по существу это письмо отмело бы и жалобы тех, кому обидно за недооцененные таланты Лили, и претензии оскорбившихся за женскую честь Лили Юрьевны, и предвзятость подсчитывающих фактические неточности.
А впрочем, с меня всегда, как с гуся вода. Потому что критика, даже ненастоящая, тенденциозная, крикливая, — это весело.
На этом ее таланте попечительницы, музы, слушательницы, советчицы я в книге всячески заостряю внимание, но мои критики видят только желтый канкан — калейдоскоп любовников, бордельные авантюры и голое платье. И не мудрено, ведь я и сама вслед за своей героиней с упоением погружаюсь в эту вселенную свободной любви, столь несвойственную нашему асексуальному времени.
А это и раздражает моих критиков более всего. «Я всегда был невысокого мнения о биографических потугах "Молодой гвардии", но сейчас господа издатели при деятельном участии Ганиевой пробили дно, и сия глубокая пучина поглотила их, — сетует один одиозный литературный журналист в сетевом издании. — Факты общеизвестны, об оригинальной их интерпретации и речи нет, — не те у авторессы задатки. И задачи не те: кончала или нет? сифилис или триппер?» Отзывов в этом духе довольно много. Все, как один, ссылаются на наказ, данный мне Вениамином Смеховым — не ударяться в желтизну. Наказ, который я сама же и привожу в предисловии.
И вот тут я ловлю моих дорогих хулителей на чистоплюйстве и ханжестве. И на плохом знакомстве с моей героиней. Лиля Юрьевна Брик, я уверена, ужасно веселилась бы над господами, так оберегающими ее честь. Она была эпатажницей, абсолютно лишенной комплексов и предрассудков — ей нравилось, когда ее поступки или романы обсуждались прямо, без утайки и ложной скромности. Она могла легко отмочить самую сальную шутку и не стеснялась обсудить медицинские подробности своей половой жизни.
ЛЮБ была в этом смысле очень зрелой, очень европейской женщиной. Что за нелепицы, что за отсталость — скрывать, ревновать, хихикать, замалчивать? И здесь ее роль в либерализации общества отсталого, кабанихинского, провинциального несомненна. Представляю, как она удивилась бы, что в XXI веке все еще осуждается перечисление вслух чьих-то любовников. Сама она своих любовников перечисляла открыто — да и весь ее круг формалистов, лефовцев, молодых экспериментаторов 1920-х относился к этому гораздо менее болезненно, что современные российские библиофилы. Повторю еще раз: писать о Лиле Брик и обойти молчанием ее любовную и сексуальную жизнь — нонсенс и нечестность. Ее личная жизнь, повторюсь, была ее искусством, ее идеологией и ее способом общаться со временем. Ее способом выживать в страшный Люциферов век. И этот ХХ-й Люциферов век и есть второй герой моей книжки.
Что касается аргументированной критики, то я ее люблю и всегда благодарна за комментарии по существу. В этом смысле, самым важным для меня отзывом был отзыв шведского слависта Бенгдта Янгфельдта, на чьи работы я довольно щедро опиралась во время написания «Ее Лиличества». Он поделился своим мнением частным письмом, поэтому процитировать, увы, не смогу. Но по существу это письмо отмело бы и жалобы тех, кому обидно за недооцененные таланты Лили, и претензии оскорбившихся за женскую честь Лили Юрьевны, и предвзятость подсчитывающих фактические неточности.
А впрочем, с меня всегда, как с гуся вода. Потому что критика, даже ненастоящая, тенденциозная, крикливая, — это весело.
Подпишитесь на нашу рассылку
Все новости журнала «Вопросы литературы» в вашем электронном ящике